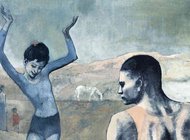Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.
Каталог «Ян Фабр. Рыцарь отчаяния/Воин красоты», изданный совместно Государственным Эрмитажем и SKIRA на английском языке, — книга, что называется, must have для всех, кто полюбил выставку бельгийского гения, ставшую причиной сетевого штурма Зимнего дворца накануне 100-летия октябрьских событий в Петрограде.
Фабр в деталях
Только читатель этой книги может разглядеть все детали грандиозного дефиле Фабра в Главном штабе и трех дворцах Эрмитажа: от мельчайших ювелирных элементов бронзовых позолоченных скульптур до мозаичных композиций из надкрылий златок, от надрисовок на антикварных рекламных карточках универмага «Принтемпс» до «невидимых шедевров», нарисованных на фотобумаге ручкой BIC и открывающихся лишь в объективе iPhone («Появление/Исчезновение Вакха», а также Антверпена и Христа).
Из десятка статей каталога, написанных куратором выставки Дмитрием Озерковым и его бельгийскими коллегами, можно узнать множество интересных подробностей о Фабре (например, о его революционных перформансах 1970-х, когда он менял на антверпенском рынке овощи на ручные гранаты, и об академизации акционизма, в новом веке превратившегося в балет, одну из партий в котором танцевала собака).
Не меньше любопытных сведений содержит каталог о родине художника — Антверпене (шутка ли, родиться по соседству с «Безумной Гретой» Брейгеля в бывшем «Голливуде испанской империи»).
Каталог также расширяет горизонты любителей Михаила Бахтина, повествуя об истории нидерландских карнавалов, о шутовском колпаке от Дунса Скотта и о других столь же занимательных материях, но, главное, представляя читателям интеллектуальный карнавал европейской символики: персонажи Фабра — лебеди, собаки, павлины, совы, попугаи — могут одновременно нести весть об аде и о преданности за гробом, о тщеславии и о чистоте душевных помыслов, о смерти и о вечной мудрости. Если столь переменчив смысл структурообразующих идей, что сказать об образах, ведь Вальтер Беньямин полагал, что идеи относятся к вещам, как созвездия — к звездам?
Король европейских постмодернистов
Зритель Фабра не столько считывает эти перипетии ученой символики, сколько погружается в суггестию перформанса, барочно ослепительного и сразу же предъявляющего нам героя — фигуру самого художника, современного обывателя, сначала в Аполлоновом зале «разбившегося в кровь» о стекло шедевра Рогира ван дер Вейдена, а потом воскресшего в рыцарских доспехах.
За стенкой от инсталляции Аполлонова зала, в Георгиевском зале стоит трон российских императоров, на который однажды влез и стал дурачиться караульный кадет, не заметивший, как вошел Александр I. Государь свел шутника за ухо с трона, грустно заметив: «А вот мне тут не так уж весело». Фабру, королю европейских постмодернистов, развлекающему эрмитажную публику, тоже не весело, хотя он и смеется смехом бессмертных.
Являясь современным художником, он должен сложить свое слово «вечность» — решить задачу создания неповторимого произведения искусства в условиях, когда все повторяется в промышленных масштабах. Прежде всего он выбирает свой материал — радужные надкрылья жуков, которые еще в эпоху романтизма использовались для украшения дворцов и церемониальных одежд. Неповторимый благодаря этому миллиарды раз повторенному самой природой материалу Фабр, таким образом, показывает все еще не преодоленное различие между брендом и породой, между дорогим магазином и музеем.
«Невидимые картины», созданные с помощью второго материала Фабра — шариковых ручек BIC и превосходно воспроизведенные в каталоге, для кого-то служат моралью о селфи, самом популярном теперь занятии музейных зрителей, кому-то напоминают о «Человеческой комедии» и «Неведомом шедевре», у других же вызывают в памяти «международный синий» Ива Кляйна.
Алхимия Фабра по сравнению с алхимией Кляйна гораздо более индустриальна, что неудивительно, так как в Антверпене еще при Рубенсе зарабатывали не только на живописи, но и на художественных средствах, делая состояния на продаже сепии из чернильного мешка каракатиц. И при этом результат алхимии Фабра отнюдь не теряет в сложности и глубине: «скрытые» фигуративные картины, размещенные абстрактными пятнами ляпис-лазури среди шедевров Рубенса, словно темные древние зеркала, отражают всю фатальную невозможность превзойти шедевр и при этом культовую необходимость найти выход в новую жизнь искусства из этого обрушения в темноту, низвержения из сияющего красочного рая в молчание мрака.
Фабр с помощью такого абсурдного вторжения в зал Рубенса, смысл которого во всех подробностях открывается только разглядывающему каталог, показывает нам Ничто в качестве среды, где новый смысл рождается не из чего-то, а через невозможность жить и живописать дальше, в парадоксальном перескоке со стороны старых смыслов на сторону еще не родившихся, как на примере «Алисы в Стране чудес» показал эту технику создания нового смысла Делёз.
Результат алхимии
Себя Фабр представляет таким же парадоксальным гибридом культуры, природы и мифологии. В серии позолоченных автопортретов голова его украшена всеми мыслимыми видами рогов, от бараньих до единорожьих.
В Музее изящных искусств Брюсселя эти головы сияли в кромешной тьме между Брейгелем и Босхом с одной стороны и Рубенсом с другой, утверждая взгляд на Бельгию как родину сюрреализма, которая одна и может произвести рифму между рыцарским доспехом и панцирем златки, между несокрушимой духовной мощью и упорством короеда. Как мы узнаем из каталога, в 1988 году Фабр сформулировал в двух триадах свое кредо: Анархия любви / Анархия воображения / Анархия искусства; Отец — искусство / Сын — красота/ Дух — свобода.
Въезд анархиста Фабра в Эрмитаж оказался отнюдь не наглым и хулиганским, а полным философской рефлексии, что позволяет еще раз пересмотреть наши представления об анархии. Не только со времен Тутанхамона и Сен-Лорана не привозили сюда столько роскоши, но и никто, кроме Сокурова и Фабра, не предложил нам такой замечательный портрет великого музея. Ведь о бидермайерном золотом времени Эрмитажа, когда коллекция обрела свой великолепный архитектурный экзоскелет, Фабр, генетически незнакомый с катастрофой 1917-го, понимает гораздо больше нас.
Эрмитаж от Кленце, Штакеншнейдера и Стасова хранит память о том, что гениальная живопись из собраний Кроза и Уолпола интересовала августейших коллекционеров не менее, чем такая вычурная штуковина, как часы «Павлин», до сих пор самый популярный экспонат музея; о том, что «Алиса в Стране чудес», опубликованная в год открытия «Принтемпса», — ровесница «Преступления и наказания»; о взрыве Степана Халтурина, вытесненном из истории новыми миллионами; и о том, что дамы тогда, когда Халтурин закладывал динамит в винный погреб Зимнего дворца, носили на шляпах чучела птиц, а диваны и столешницы крепились на слоновьих и страусовых ногах; и о многом другом, включая главное — шедевры, каждый из которых — это момент наивысшей жизни искусства и одновременно смерти конкретной художественной традиции, потому что больше ей развиваться уже невозможно и она, прекраснейшая бабочка, вынуждена сложить крылья, чтобы ее род мог существовать дальше.
Финал экскурсии по Эрмитажу Фабра ждет нас в Главном штабе. Это инсталляция «Умбракулум». Название означает место, где можно уединенно размышлять в тени, место еще более отшельническое, чем сам Эрмитаж. Здесь, в пространстве у гигантского «Вознесения Христа» кисти Рубенса, Фабр разместил сплетенные из пиленых костей, животных и человеческих, монашеские одеяния, меж просвечивающих кружевом клобуков покоятся ржавые старинные станки, а над ними парят инвалидные коляски и костыли, инкрустированные изумрудными экзоскелетиками жуков. Пещера Али-Бабы, должно быть, так не сияет, как этот загадочный «Умбракулум». Там, где обветшала множительная индустрия, производительная мощь природы и воскрешающая власть искусства все еще в силе снабдить страждущих протезами духа.