Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.


Западная Европа, XVII век. В исторической классификации — становление Нового времени. Это понятие Александр Якимович, автор книги «Художники XVII века. Новаторы, экспериментаторы, нонконформисты», использует довольно часто, словно желая подчеркнуть: рассматриваемая им эпоха отличается от прежних, она во многом беспрецедентна. Хотя, конечно, и Ренессанс был судьбоносным периодом для европейского искусства, да что говорить — из него-то и вышло все дальнейшее. Другая книга этого автора, изданная в 2021 году, носила сходное название — «Художники Возрождения. Новаторы, экспериментаторы, нонконформисты». В нынешнем заголовке присутствуют те же формулировки, но фигуры, ими охарактеризованные, уже ощутимо иные. И эпоха тоже другая: как сказано у Шекспира, «распалась связь времен».
Якимович стремится поведать о том искусстве без музейной оптики и отчасти вне академического контекста — так, чтобы читатель почувствовал: художники, о которых идет речь, действительно прокладывали новые пути, нередко сталкиваясь с непониманием — или же с ограниченным пониманием, недотягивающим до истинного масштаба свершений
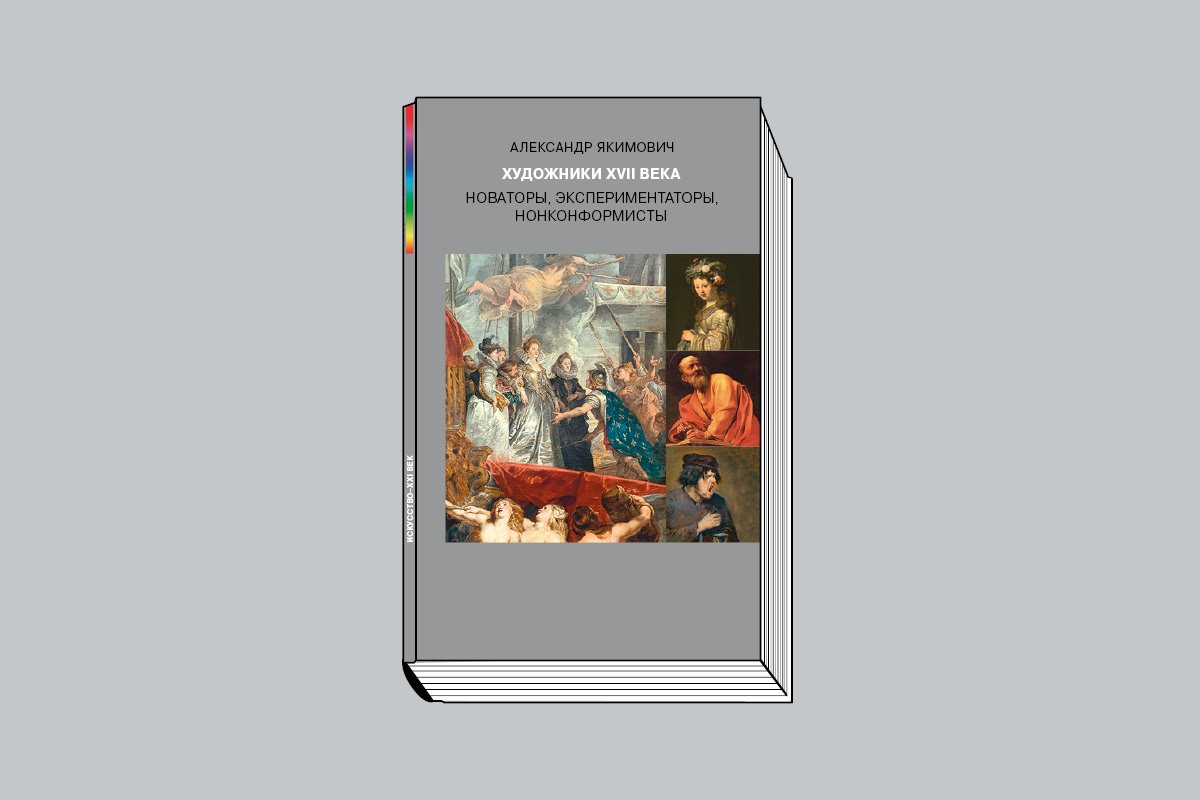
Издание представляет собой серию биографических очерков — преимущественно о творчестве, точнее, о свободе творчества, а если еще точнее — об индивидуальных стратегиях по подрыву окружающей нормативности. Рассказать об этом — достойная задача сама по себе, но у книги обнаруживается и сверхзадача, о которой будет сказано ниже.
Главных героев здесь восемь, и все они из первого ряда: Микеланджело Меризи да Караваджо, Питер Пауль Рубенс, Адриан Браувер, Лоренцо Бернини (им посвящены главы начального раздела «Буря разразилась»), а следом — Никола Пуссен, Рембрандт Харменс ван Рейн, Диего Веласкес, Ян Вермеер (вторая часть, получившая название «В поисках тишины и мудрости»). Впрочем, это для нас они все великие, а при их жизни бывали и другие мнения. Караваджо в книге предсказуемо именуется «мятежной творческой натурой», поздний Рембрандт — художником, «отключившимся от реальной истории, от социума и человеческой реальности». Браувер отнесен к числу «сердитых фламандцев», писавших «злые картины», а про Вермеера, «креативного эгоцентрика», сообщается, что он «совершенно не заботился о том, чтобы нам рассказать историю».

Правда, у остальных героев прижизненная репутация безупречна, и почитание их современниками налицо, однако тут возникает закономерный вопрос: а что насчет «новаторов, экспериментаторов, нонконформистов»? Это Бернини, что ли, нонконформист? Или Пуссен — экспериментатор? Что ж, не следует прикладывать к каждому из заявленных художников все три характеристики сразу (хотя вот Пуссен, полагает Якимович, как раз вполне экспериментировал). Достаточно того, что все они — безусловные новаторы, а с индивидуальными особенностями можно и нужно разбираться.
И автор с ними действительно разбирается, только на свой лад. Читатель очень скоро начинает осознавать, что полновесных жизнеописаний с авантюрно-психологическими деталями ему не предложено. Главные действующие лица у Якимовича отнюдь не романные персонажи, а фигуры на исторической сцене. По сути, зачинатели и носители новой типажности. Не было раньше живописцев или скульпторов, которые бы мыслили и поступали, как Караваджо, Рубенс, Бернини, Рембрандт, — и вот они появились, образуя невиданный доселе диапазон. Якимович пишет об этом с воодушевлением, порой даже со страстью, которая легко может заменить собой беллетристические эмоции.
Примечательно, что автор не отделывается общими словами и терминологией: мол, все ясно, пришло барокко — отворяй ворота. Нет, не так уж и ясно. Для осмысления привлекаются литература, философия и даже астрономия (гелиоцентрическая система мира буквально перепахала сознание интеллектуалов XVII века). А значит, разрастается и круг упоминаемых имен — за счет того же Шекспира с Сервантесом, Декарта и Паскаля, Галилея и Ньютона. Плюс, разумеется, возникают другие художники — предшественники и прямые последователи. Плюс заказчики и меценаты, люди в сфере искусства не последние.

Чем дальше, тем заметнее книга населяется разного рода персонажами, и ладно бы только из XVII столетия. Но встречаем мы на ее страницах и Поля Сезанна, и Казимира Малевича, и Михаила Ларионова, и Эдварда Хоппера. Много кого встречаем из будущих «новаторов, экспериментаторов, нонконформистов», и на каждого проецируется что-нибудь из идей и концепций былой эпохи. Это напоминает гипертекст, и тут самое время вспомнить про сверхзадачу, о которой речь заходила выше. Александр Якимович — автор множества книг и статей; они писались на протяжении десятилетий, и, если даже следовали какой-то обдуманной программе, для посторонних это не было очевидно. А теперь проступает возможный замысел: осознать и по-своему интерпретировать искусство от Ренессанса до почти наших дней. Прежде всего европейское, но в ХХ веке еще и американское, и советское. Книга «Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930–1990» была написана в 2009 году и недавно перевыпущена в том же издательстве «Искусство — XXI век». Так что дело теперь за XVIII и XIX столетиями, и хронология почти сомкнется — если, конечно, автор ставил перед собой подобную цель. Вообще-то мог бы и замахнуться. Ему есть что сказать из того, о чем умалчивают поисковые компьютерные системы.






