Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.


Книга «Облака» стала итогом почти 30-летнего труда художницы Веры Маевны Митурич-Хлебниковой по реконструкции хроники жизни ее семьи. К ней среди других принадлежал поэт-будетлянин и «председатель земного шара» Велимир (урожденный Виктор) Хлебников (1885–1922). Другим персонажем «Облаков» стала его младшая сестра — график и живописец Вера Хлебникова (1891–1941), в 1924 году сочетавшаяся браком с преподавателем ВХУТЕМАСа, художником и изобретателем Петром Митуричем (1887–1956). Годом позже на свет появился их сын Май Митурич-Хлебников (1925–2008), судьба которого была предопределена изначально. Названный по месяцу рождения, он, как и родители, пошел по художественной стезе.
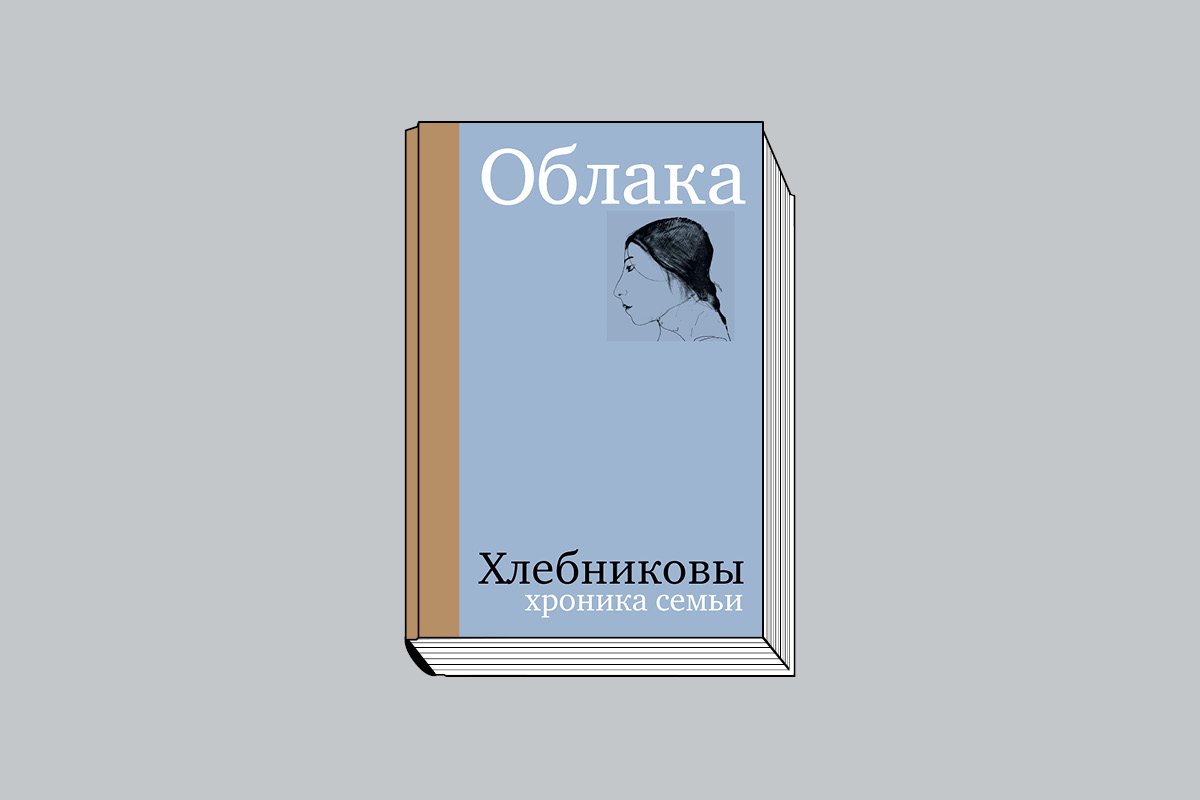
Название книги отсылает к впечатлению ее составительницы — и полной тезки своей бабушки — Веры Хлебниковой, художницы и литератора, которое оставили в ее воображении письма из семейного архива. От времени они истрепались настолько, что начали походить на облака. С опорой по преимуществу на эпистолярное наследие семьи, а также на записки, воспоминания и другие личные документы и составлено это могучее, 600-страничное издание. Многие из источников ранее не публиковались или печатались в скромных объемах.
Поражает степень детальности, с которой эти очень личные, субъективные и полные чувств документы фиксируют жизнь — буквально пошагово. Письма друг другу писались членами семьи с регулярностью, сравнимой разве что с цифровой эпохой. В мельчайших подробностях описывались детали быта, сообщались моменты дневникового и исповедального характера, передавались семейные новости. Все это превращает чтение едва ли не в просмотр прямого эфира с мест событий, дошедшего до нас в записи.

На глазах у читателей разворачиваются картины учебы Веры Хлебниковой в Париже, не вызвавшем у нее добрых чувств, а затем во Флоренции, которую она считала своим новым домом. В серых красках предстают обстоятельства периода Первой мировой войны, которыми в особенности тяготился служивший Велимир («Я могу стать только штрафованным солдатом с будущим дисциплинарной роты. Шаги, приказания, убийство моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий, и я совершенно не помню правой и левой ноги»). Любовь Митурича и Хлебниковой расцветает едва ли не прямо на страницах их писем, которыми они обменивались после смерти друга и брата, цитируя его стихи и пользуясь его любимыми словами и выражениями.
Все герои книги предстают как характеры, каждый со своими чертами, переданными через привычки и увлечения и в особенности через причуды синтаксиса и стиля их письма. Будетлянин Хлебников остается верен авангардной поэзии даже в посланиях к родителям: «...будущее покажет, что вы можете гордиться этой скатертью-самобранкой с пиром для духовных уст всего человечества, раскинутой мной» (о своей первой опубликованной книге «Разговор ученика и учителя»). Стиль его сестры — вольный и местами экзальтированный, почти цветаевский: «…этот серый цвет [писчей бумаги] — цвет флорентинских дворцов, старинных палаццо и церквей; если открыть — подарит воображению: жуткую роскошь запекшейся крови, золото роз и зелень темного малахита…»

Мягкими и домашними кажутся интонации Владимира Алексеевича Хлебникова, первого директора Астраханского заповедника, ботаника и орнитолога, преданного детям и до конца жизни поддерживавшего их.
Записи Петра Митурича — внимательные, бережные и чуткие по отношению к близким и к миру вокруг. О жене, наблюдая, как она рассказывает больному сыну истории, он пишет: «...я заметил, что в ее методе рассказа совершенно отсутствовал нереальный смысл, она, как естественник, преподавала только действительно наблюдаемые формы жизни животных… По собственному произволу она не фантазировала, не украшала сказочно, хотя и склонность ее к сказке будто бы утверждается ею самой литературно… она творила образ своей окраски на реальной основе, но грани восприятия мира так расширялись, что он становился сказочным с обычной точки зрения».

Те голоса дополняются комментариями Веры Маевны Хлебниковой. Письма и воспоминания в «Облаках» перемежаются ее авторским текстом, восстанавливающим детали, которым не нашлось места в прямой речи героев. После прочтения книги и вправду создается ощущение, будто сумел расслышать их голоса, находящиеся друг с другом в удивительном полифоническом резонансе, но сохраняющие каждый свою тональность. Примечательно, что подобная манера характерна и для самой Веры Маевны как художницы, много работавшей с чужими архивами и прямыми свидетельствами. Она всем предоставляет возможность если не прозвучать в полную силу, то хотя бы обозначиться у горизонта — на манер облаков удивительной формы.






