Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

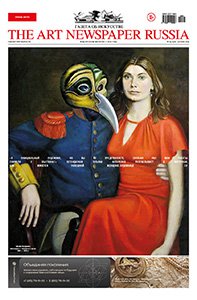
Австралийский музыкант Ник Кейв прославился на весь мир лирическими балладами, в текстах которых переплетаются цитаты и персонажи Ветхого Завета, греческих мифов и американского Юга. Кейв — довольно плодовитый писатель и композитор: со своей группой Bad Seeds он выпустил 18 студийных альбомов, написал несколько сценариев к художественным фильмам, завоевавшим награды, создал ряд саундтреков к разным лентам, опубликовал два нашумевших романа, да и много чего еще успел сделать. В последнее время он с увлечением общается с поклонниками в собственном популярном блоге The Red Hand Files («Файлы „Красной руки“»), где звезду можно спросить о чем угодно: от того, как он справляется с недавней потерей в семье (второй сын Кейва Артур погиб в возрасте 15 лет, сорвавшись со скалы, а недавно музыкант потерял и старшего сына, 32-летнего Джетро Лазенби), до вопроса о том, любит ли он изюм.
Ник Кейв родился в Австралии, в городке Уорракнабил, в 300 км к северу от Мельбурна, в 1957 году. Он учился в художественном колледже, затем со своей первой группой The Birthday Party, которая считается одним из лучших постпанк-коллективов в истории музыки, отправился в Лондон, а потом в Берлин. Группа распалась в середине 1980-х годов, а Кейв вскоре основал коллектив Nick Cave and The Bad Seeds, который существует до сих пор. За эти годы ему удалось поработать со множеством знаменитостей разного калибра — от Джонни Кэша до Кайли Миноуг.
И вот теперь Ник Кейв решил попробовать себя еще в одной области искусства: он представил на суд публики серию керамики, вдохновленную стаффордширским фарфором, популярным в Викторианскую эпоху. Кейв увлекся лепкой во время пандемии коронавируса — тогда появились первые из 17 раскрашенных вручную скульптур, рассказывающие о непростой жизни дьявола. С ними Кейв дебютировал в прошлом году в Брюсселе, а недавно его работы показали в Нидерландах, в Музее Ворлинден, на выставке «Ник Кейв. Дьявол. Сцены из жизни». Вместо традиционного выставочного каталога Кейв написал короткий рассказ, проиллюстрировав его фотографиями своих работ.

Почему вы вдруг решили заняться керамикой?
Не могу сказать, что вдруг, потому что это зрело внутри меня уже давно. Для меня это своего рода возвращение к изобразительному искусству, которое я забросил в 20 с небольшим лет, недоучившись в художественном колледже, хотя меня к этому всегда тянуло. Меня отчислили со второго курса, но не потому, что мои работы были слабыми, а из-за плохого поведения и прогулов.
Я много лет собираю стаффордширский фарфор, точнее, статуэтки. Очень люблю эти вещицы. Это не картины за миллионы, их легко можно найти в антикварных лавках или на блошиных рынках. И они оказались у меня перед глазами, когда я сидел за рабочим столом. Во время пандемии нам всем пришлось побездельничать, нам тогда будто разрешили делать то, что мы обычно не делали. Так вот, я сидел и глазел на одну из статуэток и вдруг меня осенило: я могу сделать такую же.
В подростковом возрасте я лепил маленькие фигурки из глины, и моя мама их обожала. Взрослые говорили: это явный знак, что у этого ребенка — а я был одним из четырех детей в семье — есть талант.

А мама сохранила ваши детские работы?
Да. Они всегда были рядом с ней. Она ушла от нас во время пандемии. В свои 92 года она хранила мои детские поделки около любимого кресла. Эти статуэтки были ей очень дороги. Так что да, в моем новом хобби есть элемент сентиментальности и ностальгии, но в основном я просто подумал: «Черт, ну не так уж и сложно сделать такую штуку самому».
При этом в скульптуру я пришел безо всяких амбиций. Мне совершенно не хочется быть музыкантом, который вдруг решил, что может стать великим художником. Это ужасно, ужасно...
Ну, не вы первый, не вы последний. У всех получается с разной степенью успеха.
Да, именно. Поэтому я не хотел.
Помимо Стаффорда, были ли другие направления скульптуры, другие художники, которые вас вдохновляли?
Да, конечно, были вещи, были художники, которые задали для меня ориентиры, особенно в глазуровании. Одним из первых для меня стал Эдвард Мунк. Он очень четко использовал в работах цвет, доводя его символичность почти до детской категоричности. Красный у него — это всегда насилие, зеленый — зависть. Когда смотришь на картину Мунка, не остается других интерпретаций. И мне очень хотелось, чтобы каждый цвет, который я использовал, был тоже символически нагружен с этой очевидной, детской простотой.

Вы подходили к созданию работ так же методично, как к написанию песен? Каждый день ездили в студию?
Само собой. Каждое утро вставал, ехал в Кэмбервелл (район на юге Лондона. — TANR) и работал там... В итоге процесс растянулся почти на два года. Мой агент мне твердил: «Что за фигню ты творишь?» А я ему: «Знаешь, я подался в керамисты». С его точки зрения, это был не самый удачный способ убить два года жизни… Но, как бы то ни было, меня затянуло. Это действительно оказался незакрытый гештальт.
Вы как-то сказали о том, что концерт, выступление на сцене — это почти трансцендентный опыт общения с аудиторией. В музыке и в вашем блоге вы напрямую общаетесь с людьми. А с керамикой как это получается?
Общее у этих процессов есть. Ну, прежде всего это то, что моя скульптура абсолютно искренна. В ней нет иронии, сарказма. На мой взгляд, в ней нет и китча. И она пытается помочь мне разобраться в жизни, вытянуть меня со дна. Точно так же, как и на моих концертах. Они — то, чем кажутся: по сути, для меня все это — дело жизни и смерти. Творчество мне жизненно важно для того, чтобы попытаться понять, что со мной происходит.

Дьявол в вашей скульптуре очень очеловеченный, этому малому почти сочувствуешь. Вы говорили, что выбрали этого героя из-за особого красного оттенка глазури, который вам понравился.
Когда делаешь выбор, происходят самые разные вещи. Но, по сути, первоначально я задумал использовать именно этот красный. Я сделал серию рисунков шалящего дьяволенка и подумал: «Ого, вот что можно сделать». И тут же забыл о том, что керамика — это вазочки и всякие финтифлюшки. Я начал лепить маленьких персонажей. Это казалось отличной идеей, и я даже не задумывался, что получился черт. Для меня это был просто паренек с рогами.
Каждая новая фигурка создавала дополнительный смысл. Повествование разворачивалось. История обрастала деталями, и потом я решил вернуться к самому началу жизни героя, к его рождению. Одновременно другие традиционные статуэтки из моей коллекции навели меня на мысль о повествовании. Я задумался: «А почему бы этому черту не пойти на войну? Надо его посадить на лошадь». В стаффордширской традиции многие статуэтки — всадники; это различные исторические персонажи, скачущие верхом. «Я сделаю так же», — подумал я. И вот мой чертик уходит на войну, а я рассуждаю: «А почему он не возвращается?» Так и изменился мой дьявол. После торжественного отбытия на войну и похода через цветочные поля он возвращается домой, минуя реки крови, уже сломленным человеком. Так что история просто стала объемной, обросла смыслами, превратившись в более личную.

Моя фигурка, которая больше всего похожа на классическую стаффордширскую, — это убийство ребенка. В стаффордширском фарфоре есть жанр религиозных статуэток, изображающих библейские сцены. Например, Авраам, убивающий Исаака. Я подумал: «Ну, надо сделать». И вдруг это эхом отозвалось во мне, став частью истории, которая была шокирующе близка и теперь замкнулась на самой себе, потому что я сам потерял ребенка. И тут хобби мое обрело более загадочный, мистический смысл, как и скульптуры. Потом образы стали выстраиваться в голове по порядку, один за другим. То была попытка отрефлексировать мою черную полосу — по-другому, как я еще по какой-то причине не сделал этого в музыке.
В конце концов получилось некое рассуждение о вине и прощении, спровоцированное гибелью моего сына. Это было то, до чего я никак не мог дойти в своих песнях. И для меня это стало чем-то еще более личным.
В вашей серии ребенок прощает дьявола. Важен ли для вас этот акт прощения?
Думаю, да. Я не знаю, насколько вы хотите углубляться в тему, но проблема в том, что в таких вещах нет возможности настоящего прощения. Так происходит, когда вы теряете близкого человека, а у вас остаются незавершенные дела с ним — и они всегда остаются, когда вы кого-то внезапно теряете. Такова природа.
Мне кажется, я смог выразить свою тоску по этому поводу и хотя бы в моих работах я прощен: маленький мальчик наклоняется и протягивает руку старику, лежащему на дне. Это действительно красиво и важно, это то, над чем я готов задуматься. Вот что я имел в виду, говоря о том, что эта скульптура — дело жизни и смерти.

Я не отношусь к моему новому увлечению легкомысленно. Искусство для меня — это способ (в частности, в музыке) формировать мою жизнь, причем так, что я буквально не представляю, как это сделать вне искусства. Я не знаю, как это происходит.
И создание керамики в этом плане для меня очень похожий процесс. Разница в том, что я могу стоять перед своими скульптурами, смотреть на них, видеть их, думать о них. Между ними происходит взаимообмен. В то время как музыка, песни — это абстрактные, невидимые вещи.
Британский художник Томас Хаусиго, мой близкий друг, всегда говорил, что скульптуры беззащитны: они просто стоят, а люди высказывают мнения о них, судят их, и они вынуждены принимать это. Так что мои маленькие фигурки очень уязвимы. Если они кому-то не нравятся... ну, меня это заденет. А вот если кому-то не нравятся мои песни, то мне вообще все равно.






