Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

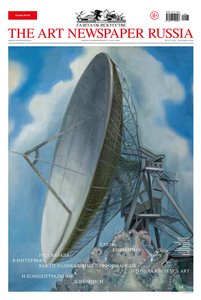
Поскольку вы стояли у истоков профессионального курирования на отечественной арт-сцене, интересно узнать, насколько сегодня кураторство в России соответствует вашим ожиданиям на старте.
Признаться, трудно восстановить в памяти, какие могли быть тогда, в начале 1990‑х годов, ожидания, потому что время переживалось по-другому. Это была эпоха обвальных изменений, тотальной неопределенности, когда все решалось здесь и сейчас. Все пребывало в такой динамике, что, честно говоря, дальний горизонт не очень просматривался. Хотя, конечно, было некое представление о счастливом будущем, когда российская система искусства станет абсолютно эквивалентной интернациональным стандартам. Было представление о необходимости стационарных выставочных залов типа «кунстхалле», о реформе национальных музеев… Разумеется, уже тогда в головах жила идея-фикс московской биеннале. И наконец, если говорить о кураторстве как институции, то в 1993 году я организовал в Центре современного искусства мастерскую кураторов. То есть некий рудиментарный проект инфраструктуры в сознании художественной среды уже вполне был оформлен.
1957 родился в Москве
1992–1997 куратор Центра современного искусства (Москва)
2010–2014 президент совета Фонда Manifesta (Амстердам)
2015 запустил многочастный междисциплинарный проект «Удел человеческий»
Куратор проектов на биеннале в Стамбуле (1992), Роттердаме (1996), Валенсии (2001), Сан‑Паулу (2002, 2004), Венеции (1995, 1997, 2003, 2005, 2007)
Лауреат премии «Инновация» (2006, 2011, 2016) и Премии Кандинского (2016)
Основатель и главный редактор «Художественного журнала» (1993 — настоящее время), Manifesta Journal (2003–2011)
Автор книг «„Другой“ и разные» (2004), «Пять лекций о кураторстве» (3-е издание, 2021)
Если же говорить о сегодняшнем дне, то важно, что понятие «куратор» уже не ставится под вопрос: это фигура, которая присутствует как неотъемлемая компонента современной системы искусства в России. Уязвимым местом является, однако, образование: кураторство у нас еще не стало в полном смысле слова университетской дисциплиной. Кроме того, оно еще не в полной мере осознается как интеллектуальная творческая дисциплина. Это особенно драматично проявилось в 2000-е годы, когда профессия куратора, заложенная и сделанная публичной в 1990-х, начала институционализироваться и даже стала модной, но ее интеллектуальный и исследовательский статус так и не был до конца конституирован. Кураторство во многом до сих пор отождествляется с менеджментом. Что неверно, так как это две разные сферы деятельности.
Продолжая тему инфраструктуры, хочется спросить: что вы думаете насчет отсутствия в России репрезентативного музея современного искусства? И вообще, нужен ли он, возможен ли?
Когда я в очередной раз слышу разговоры о большом музее — «как Тейт Модерн», меня охватывает легкая дрожь. Это модель уже отжившей эпохи. Современная культура переосмыслила, что такое искусство, что такое произведение, что такое история. C этой точки зрения модель музея-архива, которая реализуется в «Гараже», мне представляется интересной, а вот модель школьного, протокольного музея современного искусства вовсе не кажется безусловной. Но в то же время такую модель легко ниспровергать, если она все-таки есть. И создание доступного и зримого корпуса произведений современного искусства за всю историю его развития — это, безусловно, важная задача.

Но тут встает другая, большая и серьезная, проблема: в какой мере оправданно разделение на музей национального искусства и музей западного искусства, как в случае с Пушкинским музеем и Государственной Третьяковской галереей, когда приходится переходить через мост для того, чтобы увидеть Петра Кончаловского после просмотра Анри Матисса? Такое разделение существует, насколько я знаю, только у нас и в Японии, то есть в двух периферийных империях с очень двусмысленными взаимоотношениями с западноевропейским миром. Так что, мне кажется, у нас впереди — серьезная реформа наших музеев, с тем чтобы создавать всемерно насыщенную и полную картину. Потому что видеть Илью Кабакова, рядом с которым находятся Франциско Инфанте и Юрий Злотников, но нет Джозефа Кошута и Энди Уорхола, — это не совсем правильно, ведь интеллектуальное воображение авторов современного искусства абсолютно интернациональное, каким, впрочем, оно было уже и в эпоху русского авангарда.
Какие кураторские высказывания вы считаете актуальными и вообще приемлемыми на сегодняшний момент?
Есть вещи совершенно очевидные. Тот сектор, который срезан полностью, — это большие международные проекты. Соответственно, ситуация возвращается к внутренним ресурсам. Я предполагаю также, что в силу уменьшения материальных ресурсов, как нам предрекают эксперты-экономисты, сокращаться будет количество и размах выставок. В некотором смысле это даже неплохо, потому что гипершоу, где материальные возможности заслоняли собой то, что в советские годы называлось идейно-художественным содержанием, являли слабую сторону российской художественной жизни и жизни целого ряда наших ведущих институций.

Почувствовать большую ответственность за высказывания — вот к чему, как мне кажется, должна подталкивать сегодняшняя ситуация. Происходящее — это вызов, это колоссальная ломка жизненных горизонтов, и человек с творческими притязаниями, конечно, должен мобилизоваться и принять решение, что и как теперь говорить. Новые условия подталкивают к появлению более интеллектуально емких и содержательно обеспеченных выставочных высказываний. И это, в первую очередь, окончательно закрепит за куратором высокую меру авторской ответственности.
В «Пяти лекциях о кураторстве», недавно переизданных вновь, вы подчеркиваете, что кураторство — творческая, авторская деятельность. Насколько сегодня на российской арт-сцене проявлена фигура куратора-автора?
Если говорить о среднем поколении кураторов, которое возникло на излете 1990‑х — в начале 2000-х годов, то к сегодняшнему дню я почти не вижу последовательно прочерченных кураторских биографий. Были яркие дебюты, ходы, жесты, а потом какие-то длинные паузы. Многие из этих кураторов осели в институциях, таких, в частности, как «Гараж» и «ГЭС-2», где развивается практика коллективного кураторства. А когда ищется синкретизм, компромисс, то результаты получаются деперсонализированные. Когда в таких институциях работают компетентные, но лишенные яркого эго люди, то не жалко. А когда, как в нашей ситуации, яркие и очень потенциальные личности растворяются в этом формате, то становится обидно: один голос заглушает голос другого. Сейчас очень важная проблема — чтобы кураторы получили возможность самостоятельного высказывания.

С молодыми же кураторами другая проблема: они оказались в плену интеллектуальной индустрии. С одной стороны, мне симпатично, что для них интеллектуальный, поисковый характер кураторства является непреложным, что они читают книги, прилично знают английский, следят за новинками, что они в курсе спекулятивных реалистов, левого активизма и вообще всего, что надо. И разумеется, они гендерно продвинутые. Но, с другой стороны, меня огорчает отсутствие авторских позиций, личной страсти, некоей травмы, которая формирует субъективность. Этот внутренний стержень — скорее, даже не интеллектуальный, а субъективный, личностный — есть у кураторов более старшего поколения. И это есть у всех сильных кураторов. Сильный куратор может делать разные выставки на разные темы, но в каком-то метафизическом смысле слова это все одна выставка. Есть некое видение, есть некая экзистенциальная тематика, есть вещи, которые его влекут. И именно этого авторского мира, этой авторской позиции, этой авторской субъективности, не книжной, не сконструированной из чтения e-flux, а лично пережитой и заводящей, — вот этого я вижу крайне мало.
А можете рассказать о своем авторском стержне? Что его сформировало?
Я не очень доктринерски это сформулирую, поскольку буду делать это впервые. Меня называют куратором 1990-х, но, хотя я действительно активно реализовал себя в этом десятилетии, на самом деле я пришел в него с закваской 1980-х. Это была эпоха, о которой Дмитрий Быков, филолог, говорит как об эпохе культурного расцвета. Абсолютно верно: это была эпоха высокого интеллектуального тонуса. В силу того, что советское общество было высокоидеологизированным, оппозиция ему тоже носила идеологизированный характер. Высоким статусом обладало интеллектуальное общение. Ощущение причастности к кругу, спаянному интеллектуальными и духовными интересами, обладало приоритетом по отношению ко всему остальному. И в то же время — колоссальное уважение искусства и культуры как некоего ценного объекта, любование которым и есть главное предназначение мыслящего человека (что, собственно говоря, было абсолютно опрокинуто 1990-ми годами). Эстетика взаимодействия и эстетические опыты — вот два пунктира в моей работе, связанные с условием моего формирования в 1980-е. С одной стороны, это реляционные выставки типа «Гамбургского проекта», которые являются, в сущности, формой проживания, а с другой — это выставки, которые представляют собой зрелища в себе и обладают визуальной самоценностью (начиная с «Эстетических опытов» в Кускове и заканчивая всеми частями «Удела человеческого»). Также на меня сильное влияние оказал Андрей Тарковский, как и я, дитя реакционной эпохи.
Можно ли сказать, что вы формируете выставки как кинорежиссер?
Интуитивно я к этому стремился всегда, но осознанно стал связывать компоновку выставочного ряда с киномонтажом начиная с моих выставок 2000-х. Приступая же к работе над проектом «Удел человеческий», я внимательно освоил кинотеорию Тарковского и Эйзенштейна и научился работать со SketchUp. Выставки здесь выстраивались как некая поэтическая целостность, которая осваивается через время, через движение. Тарковский это называл «ваянием из времени».

Работаете ли вы сейчас над какими-то проектами?
Должны осуществиться еще две части «Удела человеческого». Также мы подготовили с Вадимом Фишкиным — замечательным художником, признанным европейским мастером, живущим в Любляне, — большую, яркую, абсолютно сенсационную монографию для Московского музея современного искусства. Но эти выставочные проекты сейчас находятся на паузе. Есть у меня проекты и в других странах, так что пока перенесу свою активность туда. А там посмотрим, как будет выстраиваться ситуация в Москве. У меня нет ни малейшего желания отказываться от работы здесь. Какая бы ни была ситуация, мне кажется, что художественный процесс должен продолжаться и должны делаться высказывания, адекватные ситуации.






