Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

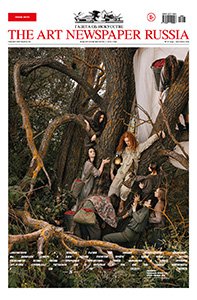
Прошедшим летом в Москву, в Музей Востока, на выставку «Мами-Вата: водные божества южнее Сахары», прибыла необычная скульптура — трехметровая богиня с крупными полустертыми от времени чертами лица и пышными формами, как будто палеолитическая Венера решила увеличиться в сотни раз и воплотиться в куске дерева. Надо полагать, так и выглядела Мами-Вата («Матушка вод»), которой поклонялись африканские мужчины, жаждущие богатства, и женщины, нуждающиеся в защите? Или нет?
Надпись на этикетке к деревянному идолу сбивает с толку: «Носовое украшение корабля. Западная Европа, XVII — начало XVIII в.». Но какое отношение оно имеет к выставке? Оказывается, самое прямое. «Одним из прообразов африканского синкретического божества Мами-Вата стали как раз носовые фигуры с европейских кораблей», — поясняет куратор выставки искусствовед Дарья Ванюкова, старший научный сотрудник Музея Востока.
Украшавшие корабли разных эпох носовые скульптуры — от драконов на лодках викингов до воинов-богатырей на русских фрегатах XIX века — служили для идентификации (в отсутствие надписей на бортах) и устрашения неприятеля, а еще были оберегами. Повреждение такой фигуры во все времена считалось дурным предзнаменованием.
В эпоху барокко европейские корабли напоминали плавучие произведения искусства. Немногие сохранившиеся носовые (а также бортовые и кормовые) резные украшения XVII — середины XVIII века поражают воображение. На галеонах великих морских держав красовались геральдические животные и аллегорические фигуры. Позолоченные или раскрашенные в яркие цвета, они олицетворяли державную силу и могущество.
«На торговых судах, в отличие от военных кораблей, редко попадались геральдические львы или фигуры монархов… а вот голая или полуголая женщина — это запросто!» — продолжает рассказ Дарья Ванюкова. Готовясь к выставке про Матушку вод, куратор целенаправленно искала именно такой образ. «Жители африканского побережья считывали гигантские носовые украшения кораблей как часть пантеона водных божеств. Дальнейшие судьбы африканцев, которых увозили на кораблях в рабство, только усиливали это восприятие. Неслучайно уже в XX веке исследователи обнаруживали снятые с кораблей носовые фигуры в прибрежных святилищах Нигерии и островах у побережья Гвинеи-Бисау».
Сначала Ванюкова рассчитывала подобрать для экспозиции модель торгового судна с кем-то вроде русалки на носу, однако ничего подходящего найти не удавалось. «И вдруг я случайно обнаружила, что в собрании Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге хранится подлинная корабельная фигура с торгового судна, возможно голландского, XVII века, — не скрывает гордости куратор. — Судя по записям в музейных файлах, ее подняли со дна в порту Ревеля (ныне Таллин) в 1860 году. Смотрите, какая цветущая женщина, какие формы, да еще и с обезьянкой на руках! В эпоху расцвета морской торговли такие ручные обезьянки олицетворяли экзотические части света. Это единственный такой предмет в России! И мы смогли получить его на выставку».
Рельеф дна Балтийского моря полон опасностей: отмели, подводные камни, рифы. Навигационные карты XVIII–XX веков изобиловали обозначениями затонувших кораблей. В водах Балтики благодаря слабой солености деревянные корпуса судов, а также их груз сохраняются в течение длительного времени. Здесь сложились идеальные условия для подводной археологии.
«Во время военных конфликтов XVIII–XIX веков на подступах к портам намеренно топили старые суда. После наступления мира приходилось их поднимать. Ревельский порт был крупной базой Балтийского флота. Работы по расчистке дна в его акватории могли быть связаны с недавним окончанием Крымской войны», — говорит краевед Ирина Босенко, историк-краевед из Санкт-Петербурга.
«Моряки — народ хозяйственный. Раз нашли, значит, нужно сохранить. И передали в музей», — рассказывает руководитель отдела фондов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Мария Олейник. В просторном главном зале здания на площади Труда носовые украшения на стенах — едва ли не первое, что бросается в глаза. Однако вычурных барочных форм здесь нет, кругом царит XIX век. В это время на клиперах и фрегатах морских держав селились более компактные и изящные персонажи: разнообразные нимфы, музы, герои прошлого. Впрочем, в русской традиции нимфы и музы, как и любые женские образы, в корабельном декоре не допускались. Их отсутствие компенсировалось героическими богатырями и военачальниками разных эпох.
«У нас экспонируются как подлинники, так и мастер-модели, — продолжает Олейник. — Вот, полюбуйтесь: „Витязь“, „Ослябя“, „Адмирал Чичагов“, — какая потрясающая у них пластика! К изготовлению украшений привлекались большие мастера: Степан Пименов, Михаил Микешин, Петр Клодт. Эскизный проект представлялся на высочайшее утверждение императору, выполняли гипсовую мастер-модель, и уже на ее основе в Кронштадте резчики изготавливали скульптуру». Когда корабли исключали из списков флота, украшения при оказии могли демонтировать — так они оказывались в музее. Мария Олейник показывает в экспозиции две картины Алексея Боголюбова «Гибель фрегата „Александр Невский“» — вид днем и вид ночью. А позже подводит к самому «Александру Невскому» — подлинной скульптуре, спасенной с фрегата во время кораблекрушения в ночь с 12 на 13 сентября 1868 года.
Незнакомка с обезьянкой выделяется в ряду других предметов корабельного декора из коллекции Центрального военно-морского музея. Во-первых, она родом из Западной Европы, во-вторых, ей гораздо больше лет, чем всем ее «коллегам» (датировку еще предстоит уточнить во время реставрации, которая начнется в ближайшее время с привлечением специалистов из Государственного Эрмитажа). Ну и наконец, она очень удачно разбавляет героическую мужскую компанию.
«Мы очень признательны друзьям из Музея Востока за то, что они заметили эту прекрасную женщину в наших фондах, — подчеркивает Мария Олейник. — Она никогда не экспонировалась, и кто знает, когда бы еще настал ее час. Но он настал благодаря инициативе наших коллег, которые взяли на себя ответственность привезти в Москву старинный и довольно хрупкий предмет. Это был удачный опыт сотрудничества, и мы уже планируем на будущий год большой совместный выставочный проект».

В разных частях Африки в святилищах морских духов поклонялись носовым украшениям с европейских кораблей. А у этого Януса, приобретенного на юго-востоке Нигерии до 1975 года, глаза обведены красным пигментом, типичным для местных скульптур. Можно предположить, что Януса тоже использовали в ритуалах.

Быстроходные военные ладьи викингов VIII–XI веков наводили ужас на неприятеля не в последнюю очередь благодаря крупным драконьим головам на носу. Головы были, кстати говоря, съемными. Если нападение не входило в планы викингов, то дракона убирали, чтобы не сеять панику на берегу.

В 1866 году на верфи в Санкт-Петербурге была заложена 95-метровая яхта «Держава» для императора Александра II. Скульптор Михаил Микешин исполнил модель носового украшения — изящную женскую фигуру в русской национальной одежде. Однако ему было велено заменить скульптуру на геральдического двуглавого орла.






