Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

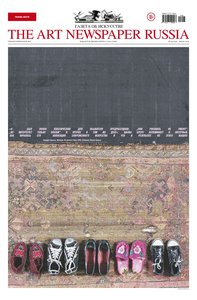
Значительная часть этой книги посвящена картинам трех французских живописцев: Антуана Ватто (1684–1721), Жан-Батиста Удри (1686–1755) и Франсуа Буше (1703–1770). Однако здесь часто упоминаются материалы и навыки, которые более привычны для декоративно-прикладного искусства. Дэвид Пуллинс, куратор европейской живописи в нью-йоркском Метрополитен-музее, утверждает, что французское искусство XVIII века слишком часто рассматривалось через призму Королевской академии живописи и скульптуры. Такая предвзятость, продолжает он, усугублена чрезмерным вниманием к салонам, то есть академическим выставкам.
В своем труде «Подвижный образ от Ватто до Буше» Пуллинс стремится прежде всего продемонстрировать широкое распространение метода «вырезания и вставки», при котором фигуры — обычно людей или животных — использовались как отдельные элементы. Он прекрасно иллюстрирует этот метод, ссылаясь на практику декупажа — вырезания фрагментов гравюр и наклеивания их на ширмы и другие поверхности; это увлечение охватило Париж в 1720-х годах.
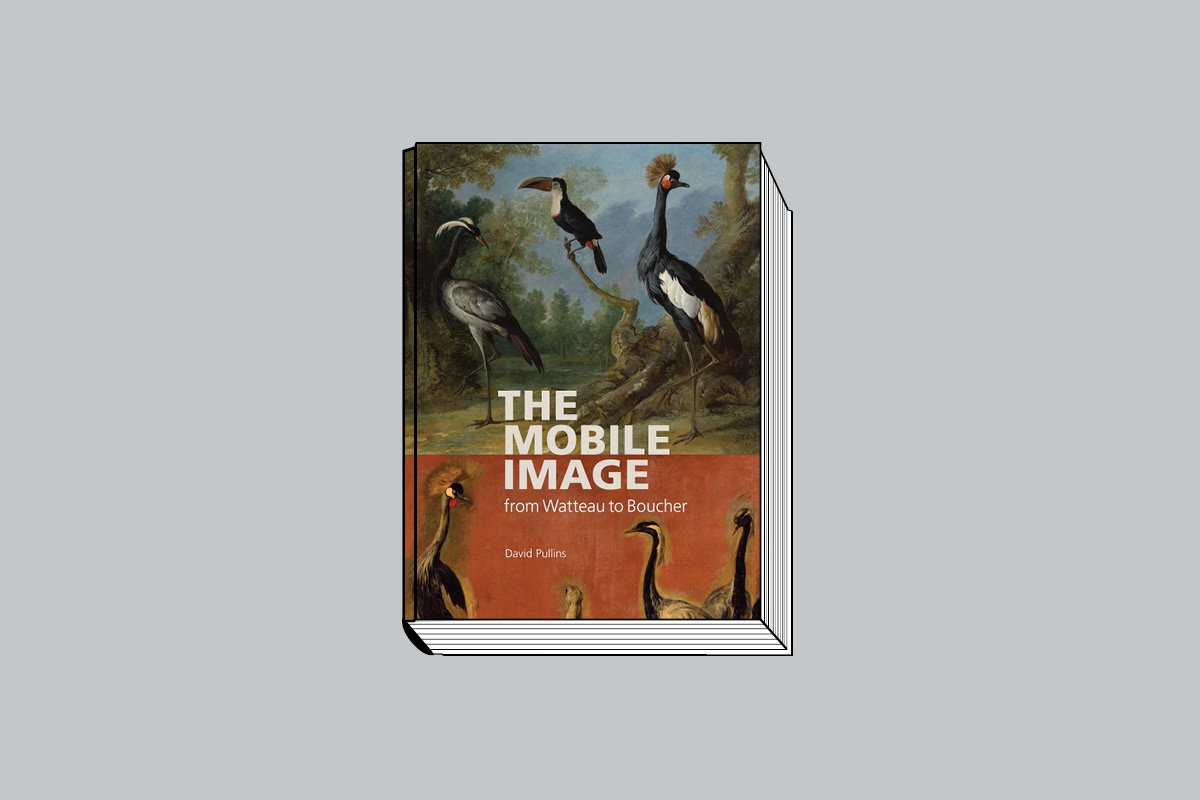
Пуллинс показывает, что похожий метод прививался как художникам, так и ремесленникам в процессе обучения. Оно начиналось с копирования рисунков или гравюр, изображавших части тела (например, головы или руки), которые можно было комбинировать для создания фигур, а те, в свою очередь, собирать в композиции. Несмотря на то что метод основывался на академической практике рисования с натуры, он поощрял бесконечное копирование и переработку двумерных изображений.
Такой способ работы идеально подходил для весьма популярного в 1710–1720‑х годах декоративного орнамента, известного как арабеска. У Клода Одрана III (1658–1734), знаменитого мастера арабесковых украшений, учился в юности Антуан Ватто, овладевший умением собирать композиции из разрозненных фигур. Схожая тенденция прослеживается в творчестве Удри, который тоже работал на Одрана, и даже у Буше, хотя к тому времени, когда карьера последнего пошла в гору, арабески уже вышли из моды. Буше неоднократно перерабатывал мотивы других художников. Правда, в его случае этот процесс был замаскирован особой авторской манерой, благодаря которой мотивы казались его собственными.

В последней главе Пуллинс рассказывает об особенностях, которыми отличались картины, созданные под влиянием этой коммерческой логики. Известные под названием tableaux chantournés, «вырезные картины», они целым рядом признаков выдавали свой генезис. В 1746 году критик Этьен Лафон де Сент-Йенн язвительно заметил, что термин «вырезные» происходит из механических ремесел. Для него и других тонких ценителей искусства подобные картины были безнадежно тривиальны.
Тем не менее концепция подвижного изображения, основанная на технологии вырезания и вставки, может подтолкнуть к более широкому пониманию произведений искусства. Она бросает вызов иерархическим различиям между изобразительным и декоративным искусством, напоминая зрителям, что картины — это не только визуальные образы, но и материальные объекты. Вдобавок она подрывает миф об индивидуальном авторстве, предполагая, что художественная практика всегда так или иначе коллективна, независимо от того, занята в ней одна пара рук или больше. В заключение Пуллинс проводит некоторые параллели, выходящие далеко за пределы французского искусства XVIII века, в частности рассуждая о минималистских абстракциях 1960-х годов американского художника Фрэнка Стеллы.






