Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

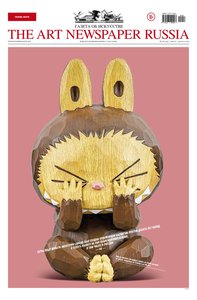
Вы собираете народный костюм. Это редкий жанр коллекционирования?
Можно сказать, россияне сейчас переживают бум собирания «русской старины», как в XIX веке. И по тем же патриотическим причинам: каждому важно найти точки опоры собственной идентичности.
Коллекционирование — это потребность, миссия, страсть. Можно коллекционировать от избытка денег, времени или свободной площади, а можно от недостатка, от какого-то голода, чтобы компенсировать, собрать заново недостающий культурный багаж, не сбереженный предками.
Мое собирательское кредо — удержаться и не стать рабом своей коллекции. Я стремлюсь к тому, чтобы моя коллекция была как можно меньше. Собрать большую коллекцию легко, а вот чтобы все, что ты хочешь, все, что тебе интересно, было в 10 или в 100 предметах, — это уже искусство.
Что здесь самое важное, чему надо учиться?
Профессионализм коллекционера требует понимать, где твои границы.
Я бы назвал себя опытным собирателем, мне помогает музейный бэкграунд. Я из Саратова. Саратовский областной музей краеведения дал мне бесценный профессиональный опыт. Там я успел освоить все музейные занятия: от сотрудника фондов до экспозиционера. Но самым большим удовольствием было именно собирать. Ты получаешь азарт, поиск, детектив, радость атрибуции, и, когда ты все это прошел — понимаешь, что собственно обладание предметом тебе не очень-то нужно. Часто какой-то костюм побыл у меня, мне удалось его максимально полно собрать, отреставрировать, показать на выставке или сводить на телевидение, то есть я насладился им, и он может идти дальше, для меня это вовсе не утрата или травма. Ты счастливо и с легким сердцем передаешь предмет туда, где ему будет хорошо.

Это место — музей?
Либо серьезная частная коллекция — серьезнее, чем моя. Либо музей, потому что именно музеи могут позволить себе собирать и вечно содержать огромные коллекции. Я верю в музей как религию, верю в незыблемость музейных институций. Когда вещь попадает в достойное собрание, это лучшее, что с ней может произойти. А для каждого это хороший шанс оставить свою отметочку в вечности.
Несколько лет я работаю с музейным кластером «Коломенский посад». Это объединение уникальных музеев, среди которых музей-лаборатория «Шелковая фабрика». Не все знают, что на рубеже XVIII–XIX веков подмосковная Коломна была одним из главных центров российского шелкового производства. Мануфактуры здесь держали настоящие, литературные такие купцы — носители определенного менталитета, представлений о чести, достоинстве, прибытке и очень корневых, народных вкусов. Тут начали копировать дорогие ткани с Востока и Запада, а закончили созданием узнаваемого стиля российского текстиля. Визитная карточка Коломны — канаватки, огромные шелковые фаты, названные так по городу Эль-Канават в Сирии, откуда их первоначально привозили. Другой бестселлер — это штофы, обычно монохромные, с матовым рисунком по глянцевому фону. Эти ткани стали мировым хитом в XVIII веке. В России их еще не производили, но оттого еще сильнее хотели. Из штофов шили платья и камзолы, церковные облачения, купеческие сарафаны. В Коломне эти штофы с роскошными барочными завитками становятся ближе к народным вкусам, в них появляются стилизованные ягодки, малинки, и рождается самобытное лицо российских тканей.
Коломенская шелковая слава резко кончилась в середине XIX века, когда пришли жаккардовые станки из Франции. Слава богу, что с опозданием по сравнению с Европой — иначе этой коломенской истории могло не быть вовсе. Большие фабрики с механизированными станками сделали многотрудные, полностью ручные технологии неконкурентоспособными.
И еще пять лет назад в Коломне не было ни одного образца местных тканей. Я появился в «Шелковой фабрике» в тот момент, когда о коллекции музея только начинали мечтать. Конечно, мы хотели канаватную фату. И нам удалось приобрести эту редкость на аукционе; она приехала из Соединенных Штатов в начале 2022 года. Сегодня в коллекции более 20 раритетов: златотканые платки, образцы тканей, костюмы. Где сегодня можно найти вещи, сделанные пару столетий назад? Большинство раритетов — от коллекционеров, решивших, что шедеврам, созданным в Коломне, там лучшее место.

Какой у вас главный критерий приобретения предметов для коллекции?
Есть проблема российских собраний: в них много предметов народной одежды, но практически нет полных костюмов, за исключением единичных старых музеев, таких как ГИМ в Москве или РЭМ в Петербурге.
Большинство выставочных манекенов одеты в самые лучшие вещи, которые попали в музей. Девичье с женским, север с югом, разное время. Потому что для большинства музеев долгое время было важно только показать быт купеческого или крестьянского сословия и то, как все к лучшему изменила революция. А другие музеи собирали образцы народного искусства — когда нужен не костюм, а красивая вышивка. И когда все это надевается вместе, это откровенно ненаучно и вовсе не красиво.
Старшие коллеги рассказывали: советское время, этнографическая экспедиция приезжает в село, бабушка выносит узелок с венчальным костюмом своей бабушки, музейные работники раскладывают на траве, допустим, 12 предметов костюма. «Ну вот тут хорошая понева, а рубаха у нас есть лучше. Передник возьмем, а пояс не возьмем». Из 12 предметов берут в музей 4, и происходит страшное: в деревне разрушен последний, может быть, комплекс костюма этого села, а в музей попадают 4 предмета, которые никогда не станут костюмом.
Поэтому первый критерий для меня — максимально полный и информативный костюм. Костюм в одном узелочке, от одной хозяйки — это вообще бесценно: вещи показывают, каким был человек, повторяют форму и размер его тела, рассказывают о его достатке, о том, как этот костюм менялся, в нем всегда виден индивидуальный вкус.
Для меня костюм — это книга, которую в первую очередь интересно читать самому, а во-вторых, ее показывать. Поэтому иметь много отдельных прекрасных предметов я не считаю целесообразным, и мне помогает то, что я постоянно работаю с этим материалом, помогаю коллекционерам и музеям, комплектую другие собрания. Свою коллекцию я ограничиваю максимально полными комплексами (порой десятилетия уходят, прежде чем я решусь назвать костюмом то, что предмет за предметом ко мне постепенно приходило) и головными уборами, которые вполне самоценны. Головной убор в крестьянском костюме порой стоил дороже, чем все приданое, а выходить из употребления кокошники и кички стали в начале XIX века. Их сохраняли как очень дорогие реликвии. Где-то был один головной убор, сохранившийся на всю деревню, который еще 100 лет после все невесты этого села надевали раз в жизни на свадьбу.
Как хранится коллекция текстиля, коллекция костюма?
Наверное, из всех предметов коллекционирования это то, что неудобнее всего хранить, по стенам, как коллекцию живописи, не развесить. Текстиль очень капризен, в идеале требует специального помещения для хранения.
Могу привести целый набор демотиваторов. Запах, который накапливается столетиями. Это не пахнет альпийской фиалкой — это пахнет котиками, сараями, плесенью и столетиями небрежения. Подумайте, где вы будете годами это проветривать.
Все эти вещи травмированные, они не бывают новыми. Поэтому будьте готовы к тому, что вы очень дешево приобретете раритет и потратите в десятки раз больше на его реставрацию.
Это коллекция, которая всегда будет сложена, закупорена. Самый главный враг коллекционера текстиля — моль. От света надо прятать. В идеале в хранилищах с определенной температурой, как минимум в герметичных вакуумных пакетах. Регулярно приходится открывать эти пакеты, смотреть, расправлять, вымораживать на морозе, проветривать на свежем воздухе.
И что самое обидное — коллекционеры текстиля не имеют свои коллекции перед глазами. Поэтому постоянно думают о том, как показать, в первую очередь, чтобы увидеть самому.

Старинный народный костюм сложно показывать?
Коллекция костюмов всегда интрига, а ее экспонирование — это всегда бал. Режиссер и продюсер этого бала — ты, твое умение даже одни и те же вещи показать по другому сценарию.
Мне не близок показ исторического костюма в виде дефиле. Трудно найти моделей: у всех должен быть рост 150–160 см. Люди 100 лет назад были другими, у них были другие пропорции. Да и где найти аутентичную обувь? А если она есть, то приходится модель подбирать под размер обуви, как Золушку.
Мне хочется выставить как можно меньше, но так, чтобы сфокусировать внимание. Например, дорожу участием в проектах Музея русского импрессионизма. На выставке Елены Киселевой, ученицы Репина, импрессионистки, очень любимой мною художницы, возле ее картины «Невесты. Троицын день» мы выставили костюмы из Воронежской губернии. Всего двух было достаточно, но рядом с живописью они сверкали как драгоценности. В рамках выставки «Журнал красивой жизни» одного наряда XIX века а-ля рюс было достаточно — этот костюм помог мне выстроить интригу, рассказать о дачной жизни как явлении русской культуры.
Я стараюсь показывать народный костюм так, чтобы он выглядел шедевром, не меньшей ценностью, чем живопись. Поэтому я придумал «медленное одевание».
Медленное одевание?
Я искал вариант показать подробно один костюм, прочитать его, перелистать, как книгу. Так родился этот жанр — «медленное одевание». На модель последовательно надеваю один предмет одежды за другим, рассказываю о них. Это может длиться полтора-два часа, а может и четыре — импровизационная форма, в которой аудитория не просто зрители, но создатели ритма разговора. Он длится ровно столько, пока интересен собравшимся. В какой-то степени «медленное одевание» наследует практикам, жившим в народной культуре: первое надевание взрослой одежды или сборы невесты. В таких случаях были участники и зрители, обязательный эксперт, мнение которого оценивающее и значимое. Даже сегодня, собираясь на праздник, деревенские жительницы не спешат выйти из дома, а ждут, когда зайдет подруга, оценит наряд, поправит, похвалит, а после вместе пойдут к третьей подруге, чтобы повторить этот важный ритуал общественного одобрения. Ведь наряжаемся мы не для себя, всякий костюм — высказывание, которое должно быть замечено.
На рубаху, поневу, на любую деталь можно смотреть с точки зрения художника, технолога, историка. И из каждого костюма извлекается множество разных сюжетов. Получается уникальное, неповторимое событие, почему я стараюсь, если можно, не записывать эти ивенты, оставлять их как живые, «аналоговые».






