Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

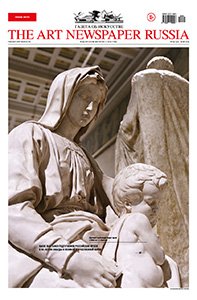
Несмотря на то что советская действительность исчезла уже давно и довольно стремительно, она остается предметом дискуссий, порой ожесточенных. А поскольку эта действительность должна была находить отображение в искусстве (что обычно происходит само собой, но в данном случае подразумевалось именно долженствование), то споры вызывает и советское искусство тоже. Хорошее оно или плохое, полезное или вредное, вписывается в мировое или нет? Ну и вообще, надо ли про него помнить или пора забыть?
В своей новой книге Кирилл Светляков — научный сотрудник Третьяковки, куратор выставок и популярный лектор — вроде бы занимает позицию «над схваткой». Примерно так же обстояло и в те времена, когда он курировал в ГТГ (вместе с Анастасией Курляндцевой и Юлией Воротынцевой) выставочные проекты «Оттепель» (2017) и «Ненавсегда. 1968−1985» (2020), напрямую связанные с содержанием нынешнего издания. Планировалась, кстати, и заключительная часть того экспозиционного триптиха — уже про перестройку, однако проект «пока заморожен на неопределенный срок, хотя вчерне был собран», сообщается в книге.
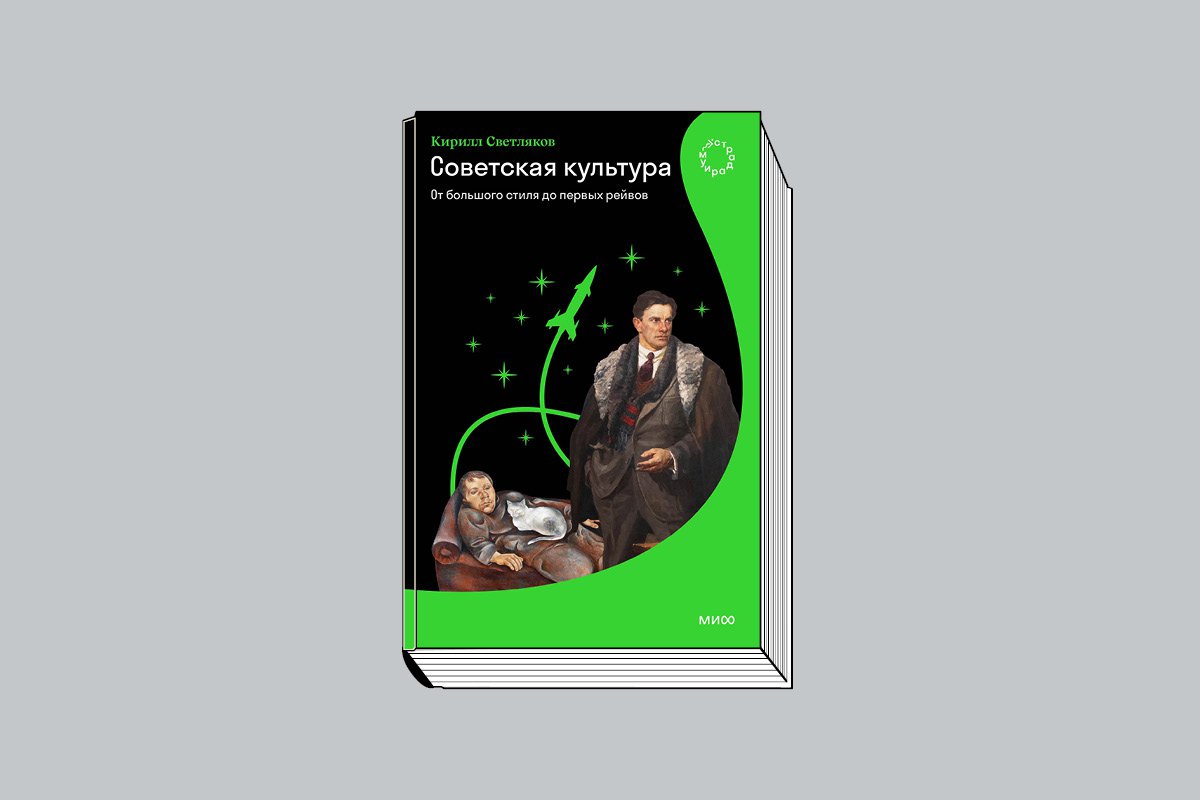
Итак, насчет пребывания «над схваткой». В печатном труде, как и в упомянутых выставках, Светляков не солидаризируется ни с горячими поклонниками советского искусства, ни с его ниспровергателями. Вот только позиция автора отнюдь не нейтральна: он полемизирует одновременно и с теми, и с другими. Предпринятая им «попытка прояснить отношения элитарного и массового в советской культуре» не умиротворяет страсти и даже способна их дополнительно подогреть. Например, утверждением о том, что означенную культуру «погубил элитизм». Мысль эта пусть и подкреплена аргументацией, но не перестает казаться парадоксальной.
В заглавие книги вынесена «советская культура», хотя рассмотрена она не полностью, не от и до. Во-первых, она здесь не вся даже хронологически: повествование начинается со «сталинского ампира», то есть с конца 1940-х. Во-вторых, жанрово-видовой диапазон тоже охвачен не целиком. Акценты ставятся на изобразительном искусстве, архитектуре, дизайне, кинематографе, отчасти литературе и эстраде, остальное упоминается вскользь или не упоминается вовсе. Это не позволяет книге претендовать на академическую фундаментальность. («А где же опера и балет? Где народные промыслы и цирковое искусство?» — небезосновательно спросит въедливый читатель.) Но Светляков и не притязает на исследование максимально полного спектра, ему важен тот материал, который коррелирует с его собственными соображениями — в расчете на то, что где-то здесь и кроется самое важное.

В основу книги положен лекционный курс под названием «Плохой хороший человек. Антропология советского искусства», и отсюда, в отличие от заглавия на обложке, вычитывается модный ныне антропологический подход. «Мы не определим, „что имел в виду художник“, если не будем знать, о чем думали, что обсуждали и по поводу чего волновались его современники», — пишет Светляков. Тем не менее к свидетельствам очевидцев эпохи следует относиться с осторожностью, поскольку «даже самые критичные герои времени неизбежно пребывают в плену собственных и — чаще — коллективных иллюзий, представлений и образов». В зазоре между двумя этими тезисами мерцают детско-отроческие воспоминания самого автора. Вроде бы не очень ясно, считать ли их свидетельствами от лица «героя времени» (что вряд ли) или мемуарами рядового «современника», однако Кирилл Светляков косвенно придает им вообще иной статус.
«Все мои исследования, посвященные советской культуре, так или иначе представляют собой опыт самонаблюдения, что неизбежно, когда речь идет об искусствоведении» — это признние не выглядит чересчур претенциозным. Почему нет? Искусствоведение, опиравшееся на доктрину соцреализма, мы уже проходили; пусть теперь будет самонаблюдение. Культура эпохи — вернее, череды эпох — якобы бесстрастно препарируется на страницах книги, но автор не готов отрешиться от личных эмоций и субъективных оценок. Разумеется, это допустимо и даже нормально. Вопрос в том, всегда ли самонаблюдение ведет к убедительным выводам или тут лишь «мое мнение против вашего».

В книге задеты многие былые герои — чаще не персонально, а в составе страт: правоверные соцреалисты, романтичные шестидесятники, нонконформисты и «левомосховцы», номенклатурщики и контркультурщики. Задеты не с целью обидеть, а ради выявления истины, как ее понимает исследователь. «Художники иногда упрекают меня в том, что я отказываю им в субъектности, когда пытаюсь найти общие места и точки пересечения с другими авторами, — пишет Светляков. — Да, я не очень верю в самобытность — это слово обычно употребляется при нежелании что-либо объяснять или как дежурный комплимент».
Самого Светлякова нельзя упрекнуть в «нежелании объяснять»: он делает это охотно и умеет увлечь читателя. С его выводами можно не соглашаться, но отмахнуться от поставленных вопросов не так уж легко. Например, когда он говорит о сомнительности иерархий, построенных на культах «гениальности» и «шедевральности», это не может не отозваться в душе любого, кто пробовал воспринимать искусство помимо ярлыков. Только нельзя ведь не помнить, что многие современники анализируемых событий и процессов «думали, обсуждали и волновались» именно в той парадигме, которую автор книги хотел бы отринуть. Новый взгляд сталкивается с прежней ментальностью — и как узнать, что из этого более ценно «матери-истории»? Не происходит ли замена одного «плена иллюзий» на другой?
Справедливости ради следует добавить, что, когда Кирилл Светляков полемизирует, он почти всегда уточняет, с чем конкретно не согласен. Таким образом, на страницах его книги оставляется место и для других позиций, не только авторских. В силу чего, кстати, некоторые из последних приобретают дополнительный вес — если одерживают риторическую победу в заочном споре.






