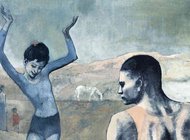Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

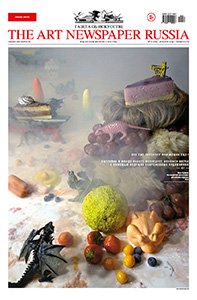
У вас недавно был юбилей, 80 лет — солидный возраст. Давайте пройдемся по основным вехам вашей карьеры. Вы родились в Париже, изучали математику в Сорбонне, но потом переквалифицировались в специалиста по культурным связям. Что не так было с математикой?
С математикой было все так, но через два года учебы я женился, позже родилась Диана, и надо было начинать серьезную жизнь. Я бросил математику, приехал в Германию и стал там работать в турагентстве, а потом в авиакомпании Lufthansa.
Я жил в старой квартире, куда переехала моя мать еще в 1927 году. Дом был бедный. Мой отец, Владимир Ильин (известный философ и теософ. — TANR), мало денег зарабатывал, он преподавал философию, богословие, но мать получала много, поскольку она занималась недвижимостью. Когда мне было десять лет, меня отправили в школу в Англию. Кстати, там я встретился с моей будущей женой. Она немка, родилась под Франкфуртом, и, повзрослев, мы решили переехать в Германию. Я учил языки в интернате и уже говорил по-немецки в турагентстве, куда я устроился. Кстати, именно от него была моя первая поездка в Советский Союз, в Москву, на мировой конгресс по психологии. Я сопровождал группу немецких специалистов с женами. Все они размещались в шикарных гостиницах: «Метрополь», «Националь» и так далее. А меня заселили в общежитие МГУ. Это было здорово.
Там наверняка веселее, чем в каком-нибудь «Национале».
Намного веселее. Мы гуляли по ночам, пили водку, слушали джаз на привезенных мной пластинках. Приходили дружинники, нас ругали. Но выходил я, давал им две пачки американских Marlboro — и они нам: «Приятного вечера!» И дальше шли. Целые истории, в общем, начались в МГУ.
А в 1968 году я пришел в Lufthansa, в отдел Восточной Европы. Спустя пару лет у меня был выбор: стать представителем компании в маленьком городке во Франции или пойти в пиар, что мне было интереснее. Мы занимались всей Европой, а я помогал правлению компании устанавливать связи с Советским Союзом.
Работая в Lufthansa, вы сделали множество выставок русского искусства. Какой проект был самым интересным?
Самый интересный, по-моему, «Великая утопия». Году в 1987-м или 1986-м — я уже не помню точно — я пригласил к себе домой директора Музея Гуггенхайма Томаса Кренса и директора франкфуртского Ширн Кунстхалле Кристофа Витали. Жена приготовила борщ, а я им объяснял, что все это болтовня — про перестройку, которая якобы начинается сейчас. Я показал каталоги русского авангарда, с которым они не были особенно знакомы, и пригласил в Москву, чтобы поговорить с Министерством культуры насчет такой выставки.
Мы прилетели в 1988 году, летом, в тот день, когда дом Sotheby’s провел свой первый и последний аукцион в Москве. Это было шикарно: собрались какие-то принцессы, миллионеры… Это было весело. Потом вели переговоры по выставке. Нам помогал искусствовед Павел Владьевич Хорошилов, и мы вместе составили команду экспертов из Германии, Америки и России. Их было очень много, 12 человек. Это была моя школа по искусству, я по-настоящему много чему научился.
В конце концов выставка открылась в 1992-м во Франкфурте, потом в Амстердаме и, наконец, в Нью-Йорке, в Музее Гуггенхайма.

Вы говорили, что после смены директора Lufthansa приоритеты пиара компании развернулись от искусства к гольфу и вы пришли и сказали что-то типа «оставьте мне зарплату, а я от вас ухожу».
Я им объяснил, что могу сэкономить кучу денег: не надо мне ни служебной машины, ни отдельного офиса, ни сотрудников. Мол, вы меня отпускаете, но продолжаете платить зарплату и оставляете меня в штате компании, а я пойду или в Музей Гуггенхайма, или в ЮНЕСКО, или во Всемирный фонд дикой природы. В итоге они решили с удовольствием от меня избавиться.
И вы до сих пор зарплату получаете?
К сожалению, нет. Но платили десять лет, а в Музее Гуггенхайма я работал бесплатно. Это была очень интересная фаза моей жизни. Потом музей меня взял в штат, я стал его представителем в Европе и на Ближнем Востоке. В те времена у меня было много свободы, более-менее карт-бланш. Я мог и свои личные проекты делать. Например, три раза устраивал выставки современного русского искусства в Майами, во время ярмарки Art Basel. Первая прошла очень успешно. Даже директор Центра Помпиду писал, что это самое интересное, что он видел во время ярмарки. А последней были «Русские сны» под кураторством Ольги Свибловой.
После открытий были, естественно, русские тусовки: цыгане, песни, много водки. Один раз это было на крыше какой-то большой гостиницы в Майами-Бич. Спонсор тогда был Леонид Фридлянд, его компания, и они требовали, чтобы был снег, хотя жара 30 градусов. Мы с большим трудом нашли машину искусственного снега аж в Атланте. Он сыпался на этой крыше, а в бассейне какие-то красавицы танцевали. В общем, очень весело было.
Кстати, вспомнил смешную историю с Ольгой Свибловой. Мы гуляли по Майами, а мне надо было купить фотоаппарат. Кто-то нам подсказал, где магазин, но мы ошиблись дверью и оказались в секс-шопе. А там, вы же понимаете, какие там инструменты продаются: большие длинные плетки, черт знает что… Оля купила ярко-красный парик и носила его несколько дней. Таких анекдотов много.

Именно такие мелочи — самое интересное. Получается, что вы первую половину своей карьеры деньги раздавали, а дальше стали, наоборот, собирать. Что приятнее и интереснее: давать или брать?
Ну естественно, легче и приятнее раздавать. Когда ты спонсор, тебя обожают все директора музеев — приглашают, развлекают. Я помню даже, как-то ночью я ужинал дома у директора Гуггенхайма Тома Кренса, и он вдруг захотел показать мне музей. Позвонил охране, дал распоряжение включить свет, и мы пошли.
Собирать деньги намного сложнее, но, поскольку у меня был опыт их раздачи, он очень помог. Психологически надо готовиться, изучать фирму. Например, читать ее устав. В уставах часто есть всякие красивые фразы о том, что они социально ответственные, поддерживают культуру и так далее. И надо эти фразы брать и объяснять, как мы помогаем вот это и делать.
Вы владеете удивительным искусством дипломатии, ведь убедить человека дать деньги довольно сложно. Может быть, вы вспомните интересный случай?
Много случаев было. Например, выставку «Новый Свет. 300 лет американского искусства» показывали в Китае, и она должна была возвращаться в Нью-Йорк. Томас Кренс мне говорит: «Слушай, Москва как раз между Китаем и Нью-Йорком. Придумай там выставку». Я пошел договариваться с директором Пушкинского музея Ириной Антоновой, и она согласилась.
Потом я искал спонсора и вспомнил, что есть Александр Лебедев, банкир. Он за много лет до этого дал нам $20 тыс. на издание книги «Проданные сокровища России. История распродажи национальных художественных сокровищ». Также я хорошо знал посла США Уильяма Бёрнса и попросил его устроить завтрак для нас с Лебедевым в своей резиденции. И Билл, блестящий оратор, объяснял Лебедеву, как важны культурные связи с Россией, что они существовали даже во времена холодной войны и что сейчас надо тем более этим заниматься. А потом я столько же наговорил, и человек, уставший, это слушал. «Хорошо, хорошо, я вам дам 2 млн». На этом и договорились.

В 2016 году вы стояли у истоков проекта по передаче Центру Помпиду коллекции российского неофициального искусства, но почему-то не захотели сами его вести.
Да, ко мне обратился Фонд Потанина: «Ник, ты нам найди классное музейное пространство в Париже». Я обошел все музеи, говорил с директорами, но никто не захотел. Потом я встретил президента Центра Помпиду и сказал: «У вас есть русский авангард, Кандинский, Шагал, потому что они все умерли во Франции. Но у вас мало послевоенного искусства, а Фонд Потанина предлагает очень представительный подарок на 40-летний юбилей вашего музея, примерно 200−300 работ послевоенных художников». И получил согласие. Торжественно вернулся в Россию, все это объявил, но сразу сказал, что не буду лично этим заниматься и вымогать холсты у коллекционеров или у художников, но что я знаю человека, который очень хорошо это умеет делать, — это Ольга Львовна Свиблова. И она вместе с куратором из Помпиду собрала большинство этих работ.
Состоялось все это в 2017 году. Большой трам-тарарам в Париже был. До открытия, кстати, был случай, который я не могу забыть. Ольга Львовна очень мало спит по ночам и имеет привычку всем звонить, и мне тоже. В те дни моя жена отсутствовала, была у дочки в Мюнхене. И в три утра — звонок: «Ник, Ник, ты должен нас спасти! У нас на выставке есть Булатов, но нет Кабакова». Я говорю, что у Центра Помпиду есть прекрасная инсталляция Кабакова — зачем меня будить в три утра. «Нет, надо, чтобы обязательно было частью дара!» Ну, я отдал им работу Кабакова, которую он мне лично подарил. Я хотел ее когда-то продать. Sotheby’s предложил начальную цену £500 тыс. Но жена сказала: «Ни за что! Ты что, с ума сошел? Это достояние нашей семьи, детей, внуков». Был гигантский скандал дома, сын целый месяц со мной вообще не разговаривал. Ну, потом все успокоились более-менее.
То есть Ольга Львовна вас убедила отдать £500 тыс.?
Просто в три часа утра я хотел спать, поэтому я согласился. Вдобавок я им, кстати, подарил скульптуру Юрия Аввакумова. Они были благодарны.
Многие ваши задумки так и остались на бумаге. Например, открытие центров современного искусства в Бразилии, Мексике, Москве. Почему так произошло?
Это очень просто: деньги. Надо, чтобы государство, или город, или кто-то еще все это очень хотел и, помимо строительства, оплатил функционирование музея. Это дорого стоит — содержать музей. Зато сейчас наконец строится Музей Гуггенхайма в Абу-Даби.
А в Москве была другая история. Андрей Молчанов, владелец большой девелоперской фирмы, купил участок ЗИЛа и хотел открыть музей. Поскольку он из Петербурга, то договорился с Михаилом Пиотровским открыть филиал Эрмитажа, но для современного искусства. Мы выбрали архитектора. Пиотровский очень хотел, чтобы это был Хани Рашид из Нью-Йорка. Он сделал суперпроект — очень красивое, практически прозрачное здание. Но потом они не договорились с Молчановым, который считал, что это будет слишком дорого. В общем, он победил. Я там не был, не знаю, что они построили, но точно не филиал Эрмитажа.

Вы говорили, что вам нравятся многие современные российские художники. Может быть, у вас есть любимчики?
Это, конечно, вопрос непростой, потому что я со многими знаком. Кого-то уже нет в живых: Кабакова, Пригова, Владимира Овчинникова, Оскара Рабина, Леонида Сокова. Из тех, которые живы, я люблю Александра Пономарёва, Николая Полисского, группу Recycle, Алену Кирцову, Вадима Захарова, Максима Кантора, Алексея Кострому, Ольгу Чернышеву, Айдан Салахову, AES+F, Булатова, Комара, Дубосарского, Гутова, Хаима Сокола, фотографа Парщикова, Таус Махачеву... Это те, с кем я общался и дружу более-менее.
Кто из них успешный — сложный вопрос, потому что некоторые уехали из России не только в 2022 году, но и раньше. Они более-менее успешно устроились на Западе. В прошлом году я был в Берлине и встретил там Алексея Кострому, Вадима Захарова и AES+F, они там студию устроили. Recycle в Париже имели базу; был большой спрос на них. Они знакомы с галеристами, показывают свои работы, что большинство русских не могут сделать. Особенно теперь, когда Россия в изоляции, скажем так.
Это печально, что в Европе и Америке практически не хотят слышать про русское искусство, русскую культуру и так далее. Там до абсурда было, когда нельзя Чайковского слушать и Достоевского читать. Это уже прошло, но повлекло очень плохие последствия. Например, закрыли Эрмитаж в Амстердаме, который достаточно успешно там работал. Тяжелая ситуация, особенно для художников, которые не имеют возможности путешествовать или выставляться на Западе.
У вас все-таки русские корни — вы на себе почувствовали неприятие?
Я лично не испытывал. Я же владелец и паспорта ЕС тоже. В Петербург меня всегда тянет. Поскольку я уже десять лет советник Михаила Борисовича Пиотровского, я буду продолжать ездить в Россию, но это мои личные дела, это не меняет общую атмосферу. И художники страдают, и музеи страдают… Хотите конкретный пример? Вот на днях я был в Базеле, где открылась большая выставка Анри Матисса. Они много лет надеялись получить три важные работы из Эрмитажа, но это, естественно, не состоялось. Поэтому я говорю не только про жертвы физические, но и о том, что страдает и культурный обмен в обе стороны.
Работаете сейчас над какими-то проектами или уже отдыхаете?
Да, есть идея. Я, как хобби, издавал всякие книги про дальние для меня страны. Первая была про Одессу, потом — Баку, Тбилиси, в прошлом году — про Ереван. Скромненькая, 500 страниц, 2 кг веса, 20 авторов.
И есть еще идея. Михаил Пиотровский мне рассказывал про самый южный город России — Дербент. Там очень богатая история, археология, памятники. Возможно, я буду заниматься Дербентом. Я никогда не был там.