Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

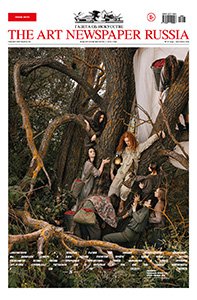
Искусствовед, университетский преподаватель, куратор и художественный критик Сергей Хачатуров хорошо известен и уважаем среди людей, профессионально связанных с искусством, и знатоков-любителей. Глубокие знания и многолетние занятия не мешают ему сохранять непосредственное, эмоциональное восприятие предмета, о котором он пишет, будь то живопись, графика, архитектура или музыка. Эти качества проявляются и в его новой книге «Апология обломков. Руинная тема в контексте истории европейской культуры»: она познавательна, увлекательна, эмоциональна и подкупает читателя доброжелательной разговорной интонацией, а пояснения даются так корректно, будто уточняются для сведущего, а не сообщаются для невежды.
«Заметки на полях и каприз воображения» — так определяет жанр своей книги автор, добавляя, что это еще и научно-популярное изложение цикла лекций, которые он решил оживить при помощи обширных цитат. Заметим, что, помимо фрагментов из художественных произведений разных времен — от «Илиады» Гомера и «Энеиды» Вергилия до «Римских элегий» Иосифа Бродского, в книге можно прочитать многочисленные высказывания разных авторов о руинах в самой широкой интерпретации этого понятия.
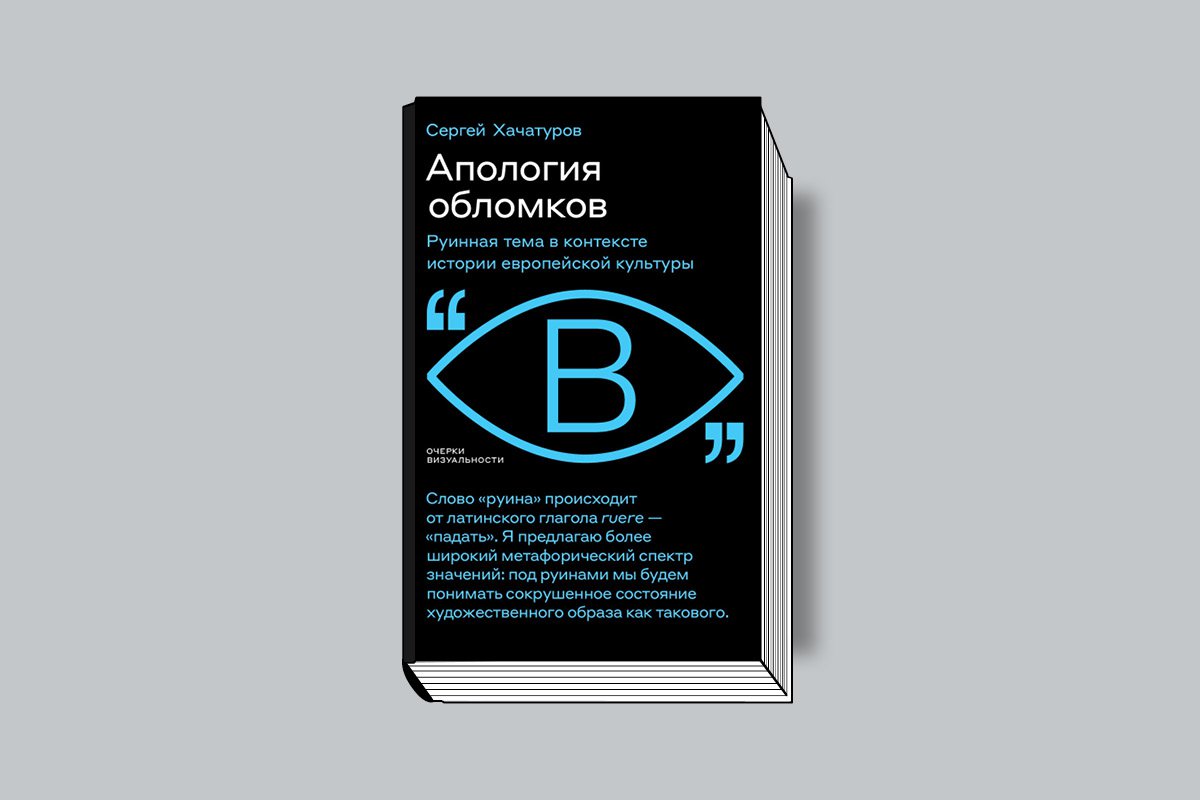
Хачатуров охотно цитирует искусствоведческие статьи, так что становится ясно: тема впечатляющих развалин занимала и занимает многих авторов. Причем упоминаются эти авторы не только в сносках, но и напрямую в тексте. Например, так: «Александр Степанов в книге „Мастер Альбрехт“ очень доходчиво пояснил, что в образе дюреровской Меланхолии совмещены два аллегорических изображения». Или так: «Этот коллажный метод позволил режиссеру Сергею Эйзенштейну назвать „Тюрьмы“ Пиранези прототипом киномонтажа».
Труд Хачатурова начинается с посвящения памяти историка искусств и преподавателя МГУ Михаила Алленова: «Элегантный, изящный, мудрейший и тончайший в фигурах речи, Михаил Михайлович щедро делился способностью восхищаться искусством и быть свободным в суждениях о нем». Хачатуров называет его Учителем и признается, что писал свою «Апологию» в диалоге с ним.

Книга выстроена хронологически, согласно периодизации истории искусства, но периодам отведено произвольное количество страниц, а герои выбраны, как правило, не ожидаемые. Например, глава «Доктрина Просвещения: руины чувствительные и антикварные» вдвое короче, чем «Руины как тени платоновских эйдосов» — о Ренессансе. Причем о титанах Возрождения в последней речь не идет, упоминается только «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи с «квазиархитектурной руиной», зато подробно исследуется роман Франческо Колонны «Гипнэротомахия Полифила», где путешествующему герою встречаются не только обычные руины — он видит и «антропоморфную руину», стонущую гигантскую статую. Дальше упоминается «Божественная комедия» Данте, а завершает главу короткий анализ «Вавилонской башни» Питера Брейгеля: «Причина неудачи постройки для него очевидно кроется в непонимании между заказчиком и застройщиками, а также в халтурном отношении к заказу. Знакомая картина, не правда ли? Северная рациональная этика позволила Брейгелю наглядно продемонстрировать, что все беды — от неточных расчетов пропорций, неровной кладки, плохого связующего раствора».
Так прихотливо построена каждая глава книги, держащая читателя в неведении о том, куда заведет автора его ассоциативное мышление, потому скучать при чтении нет никакой возможности.

Не менее исторических глав интересны страницы об отечественном современном искусстве. Например: «Романтические концептуалисты 1970–1990-х, будь то Андрей Монастырский, Лев Рубинштейн, Илья Кабаков или Вадим Захаров, занимались тем, что складывали гигантскую руину — Вавилонскую башню — бесполезных с позиций официальной ценностной шкалы фрагментов Бытия. Они фанатично коллекционировали маргинальную идентичность человека». Подробному анализу Хачатуров подвергает и работы Александра Бродского, который, как и его однофамилец Иосиф Бродский, прямо назвавший себя в «Римских элегиях» обломком, в своих совместных с Ильей Уткиным графических листах периода «бумажной архитектуры» меланхолично и иронично констатирует утрату целостного восприятия.
Всякая рецензия предполагает короткое изложение содержания книги и ее оценку: вот достоинства, вот недочеты. В случае с «Апологией обломков» сделать это непросто, если вообще возможно, ведь в ней нет утверждений, а только размышления, которые кажутся такими естественными и личными, что спорить с ними абсолютно бессмысленно и не хочется. Да и сам Хачатуров на протяжении 280 страниц только соглашается со всеми, кто воспевал руины или исследовал их отображение в европейской культуре.






