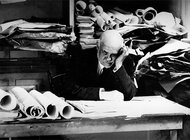Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Перед началом работы над этим текстом я думал о том, с какой точки зрения писать о биеннале: рассматривать гастрономическую программу с ее пловом и ресторанами, анализировать интерпретации центральноазиатской кухни в художественных проектах или же говорить о месте Бухары в международном культурном контексте?
Безусловно, Узбекистан известен своим пловом во всем мире, и его разнообразные вариации заполонили пространство биеннале — тут все понятно, надо пробовать. Интереснее посмотреть, как этот плов (или palov — написание, предложенное куратором Дианой Кэмпбелл) стал центральной темой фестиваля не гастрономических, а изящных искусств.

Бухаре 2500 лет, она — средневековый центр, торговый и интеллектуальный узел Великого шелкового пути. Старый город хранит десятки медресе и мечетей, отели и бани располагаются в постройках XVI века — с внутренними двориками, цветочными узорами и фрактальными барельефами, затягивающими смотрящего вглубь богатой визуальной культуры региона. Территория биеннале — это павильоны в старинных зданиях, где раньше держали скот, ковали железо или сортировали специи. Работы художников также интегрированы в жизнь города — пруды и каналы, площади и торговые ряды. В итоге создается такая плотная структура экспозиционной программы, что чувствуешь в конце дня: проделал настоящий путь, пускай и не шелковый, но вполне великий!
Основанная мной в 2019 году гастрономическая студия Applied Ingredients — это отсылка к термину applied arts (прикладные искусства). Наше кредо звучит так: еда — это культура. В своей деятельности мы совмещаем художественный подход и гастрономическую практику. Создаем концептуальные ужины, перформансы и инсталляции по всему миру. Мой путь в профессии начинался офисным поваром — я готовил ланчи на кухне IT-стартапа. Это была необычная кухня, она служила культурным хабом компании, где каждый новый сотрудник начинал свой путь с совместного приготовления обеда. Мы открыли киноклуб, я построил мини-рампу для катания на скейте прямо напротив разделочного стола, проводил лекции. Все эти начинания привели к тому, что корпоративная столовая стала объектом интереса журналистов и foodies. А меня в итоге позвали возглавить кухню модного ресторана «КМ20». Затем был ресторан «Рихтер», проекты в Петербурге и Киеве, в Вене и Катаре. Арабский мир вернул меня к моему изначальному ремеслу — журналистике. Я участвовал в написании книги о катарской кухне и три года был гастрономическим куратором, соединял шефов, художников, профессоров и фермеров в совместных проектах.
Если грубо сформулировать один из трендов в глобальном искусстве, то он может выглядеть так — антиэгоцентричность. Падение роли художника-индивида, снижение престижа европейского искусства как неизменного стандарта, рост внимания к коллективам, к голосам женщин и представителям «глобального Юга». Это часть постколониальной логики — обнаружения и усиления голосов «незападной» культуры. Например, Documenta 15 в 2022 году возглавил индонезийский коллектив Ruangrupa, который организовал в рамках фестиваля сеть из 14 коллективов, практиковавших совместное распределение ресурсов в модели lumbung. Тема Венецианской биеннале 2024 — «Чужестранцы повсюду» под кураторством Адриано Педросы — включала произведения многих художников с «глобального Юга», коренных народов, беженцев, диаспор, а также тех, кто ощущает себя чужим в разных смыслах. 36-я биеннале в Сан-Паулу вдохновлена поэмой Консейсан Эваристо, современной писательницы из африканской диаспоры, которая в Бразилии исторически маргинализирована. Отдельной сноской указано количество местных художников: 28 из 125 участников. Такое уточнение сегодня сложно представить для итальянского или немецкого фестиваля искусств.
В этом плане Бухарская биеннале идет согласно мировому курсу и даже опережает его. Среди более чем 70 проектов не представлено ни одного объекта, перформанса или ужина (не будем забывать, что речь о «рецептах!»), в которых бы не участвовал представитель местной ремесленнической, исполнительской или изобразительной ветки искусств. Каждый проект биеннале — коллаборация. Это не фигура речи, не политкорректность, не преувеличение. Под этот месседж составлены каталоги и гайд-буки. Авторство делится пропорционально, частица with («вместе») становится доминирующим смыслообразующим элементом.

Лайла Гохар, американка египетского происхождения, создает работы на стыке высокой кухни, мировой моды и изящных искусств. Для биеннале она построила павильон из сахарных леденцов — лакомства «нават», широко распространенного в Центральной Азии. Традиционной технике приготовления ее обучил местный мастер Илхом Шоймкулов. Сейчас промышленные методы производства вытесняют долгий и деликатный процесс кристаллизации виноградного сиропа на нитях, который практиковали долгие поколения домашних поваров в Узбекистане. Этот проект — сублимация технического мастерства и ностальгии по времени, когда кухни хранили рецепты, определяющие национальную идентичность.

Дизайнер Женя Ким, представительница корейской диаспоры каре-сам, родилась в Ташкенте, училась в художественной школе в Москве, а ее бренд J.Kim стал популярен во всем мире благодаря котомочному узлу — распространенному элементу линеек ее одежды. В залах инсталляции «Дом надежды» нашлось место и для него, и для винтажных обоев, яркие цветочные паттерны которых словно перекликаются с «Любовным настроением», знаменитым фильмом Вонга Кар Вая, и для жизни простых людей с улиц узбекских городов, чьи напечатанные на холсте фотографии авторства Зилолы Саидовой развешаны на стенах. Кузнецы Захир и Саид Камоловы выковали скульптуры аистов — символов Бухары, увековеченных в простом бытовом предмете — сувенире-ножницах. Эти птицы некогда населяли древний город, но под действием экологических причин покинули его. А теперь Женя Ким и братья Камоловы возвращают если и не самих птиц, то память о них.

Прославленный английский скульптор Энтони Гормли пытался посетить Узбекистан почти 50 лет назад — тогда ему было отказано во въезде. Неудивительно что в проекте Close, созданном совместно с реставратором Темуром Джумаевым, он исследует парадокс времени: как ограниченные временем жизни человеческие тела хранят в себе бесконечное знание. На месте мечети Ходжа Калон были изготовлены тысячи глиняных блоков-кирпичей, которые, соединяясь, образуют лабиринт из тел. По словам художника, «в наше время пикселей и селфи, несущих в себе желание любить и быть любимым, наша работа посвящена кирпичику — оригинальному пикселю, самодельному элементу мира, который создает нас самих».
Название биеннале — «Рецепты для разбитых сердец» — предложено художественным директором Дианой Кэмпбелл. В ее кураторском тексте упоминается легенда об Ибн Сине (Авиценне): средневековый мудрец придумал особый плов, чтобы исцелить сердце принца. Здесь комфортная еда и совместные застолья становятся метафорой исцеления, а «рецепты» — способом передачи знаний, памяти и любви.
Решение Дианы Кэмпбелл вынести гастрономию в центр биеннале вырастает из ее последовательной работы с регионами, где локальные традиции самому местному населению кажутся устаревшим пережитком по сравнению с яркой и эстетически привлекательной культурой Запада. Опыт, накопленный ею как художественным директором биеннале в Дакке (Бангладеш) и куратором других масштабных международных проектов, сделал ее особенно чувствительной к вопросам культурного перевода и включения «неканонических» форм. Для нее важно не только показать «искусство меньшинств», но и сместить иерархии самих медиа, дать голос тем формам культурной практики, которые обычно исключаются из поля высокого искусства. В Южной и Центральной Азии еда — это не фон и не сервис, а важный социальный код: она формирует общность, транслирует память, утверждает идентичность и встраивает человека в коллективную историю. Кэмпбелл говорит в интервью Tatler Asia: «Я всегда размышляю о разных способах отображения мира на карте… Если вы подумаете о рисовых культурах, от Бразилии до Португалии и Западной Африки, это будет совсем другая картина. Вы многое узнаете о стране по ее основным продуктам питания».
Идеологический профиль биеннале с его инклюзией местной традиции и глобального концептуализма распространяет свой подход и на само понятие того, что можно считать искусством.
Кулинария, поварское дело, ритуалы, связанные с пищей, до сих пор представляются прикладными сферами, обслуживающими или подчеркивающими важность других поводов в системе координат искусств. Художники, кураторы и коллекционеры отправляются на ужин, чтобы отпраздновать выставку, но не идут на выставку, чтобы отпраздновать ужин. Этот тезис легко понять из простого мыслительного упражнения: еда — основа жизни, связана с функцией (есть, чтобы выжить) или с получением удовольствия — физиологического и эстетического. В этом смысле она ближе к эротическому наслаждению, тогда как «искусство» — к истинной любви, ведь оно апеллирует к духовным, нематериальным устремлениям. Еда эфемерна и непостоянна, ее невозможно хранить и коллекционировать. Она чересчур развлекательна, а потому — вульгарна. Оратор Цицерон включил поваров в число занятий и ремесел, представляющихся ему позорными, поскольку все они «служат физическому удовольствию». Спустя более 2 тыс. лет ситуация остается прежней — гастрономическая сфера пересекается со сферой искусства лишь тогда, когда ей занимаются художники. Итальянские футуристы, течение «Флюксус», Риркрит Тиравания и Маурицио Каттелан использовали пищу как мем, иронический или спекулятивный жест, трудно воспроизводимый набор указаний, который едва ли можно назвать рецептом.
Тем не менее именно в своей мимолетности и телесности еда оказывается удивительно адекватной формой современного искусства. Она делает видимыми процессы, которые в других медиумах скрыты: совместное переживание, разрушение границ между зрителем и объектом, вовлечение времени и контекста в саму ткань произведения. Кулинария не только обслуживает жизнь, но и артикулирует ее социальное измерение — трапеза превращается в сцену общения, где проявляются политика гостеприимства, идентичность, память и забота. В отличие от материальных артефактов, которые можно законсервировать и отчуждать, еда ускользает в момент потребления, но именно эта уязвимость подчеркивает ее художественную ценность: она требует присутствия, доверия и участия. Поэтому гастрономический жест может быть не менее концептуальным и радикальным, чем скульптура или перформанс.

Чон Кван — смотрительница буддийского монастыря в Корее, а по совместительству героиня документального сериала Chef’s Table («От шефа») Netflix — проводила сессии food-медитации в рамках открытия биеннале. Церемония, длящаяся около 40 минут, предполагала вдумчивое и чуткое принятие пищи в определенной последовательности мыслей и действий.
Узбекский шеф Павел Георганов готовит по гайдам датского ресторана Brutalisten, деятельность которого соотносится с формализмом арт-коллективов и авангардных кинорежиссеров. Подобно Dogma-95, они бескомпромиссно ограничивают количество ингредиентов для приготовления блюда — не более двух! Из специй — вода и соль. Узбекская кухня, известная богатым использованием пряностей и разнообразных ингредиентов, таким образом прошла через серьезное испытание.

Эмалированная кухонная утварь массового производства и узбекские керамические блюда служат одновременно и облицовкой павильона-столовой (скульптор Субодх Гупта и керамист Бахтиер Назиров). Здесь проходят мастер-классы от известного скульптора, который на время биеннале решил примерить поварской фартук.
Еда, в конце концов, это не всегда про насыщение. Издревле пигменты съедобных растений служили краской, а врачи рассматривали пищу как лекарство. Эти положения нашли отражение в совместной работе колумбийского скульптора Дельси Морелос и Бахтиера Ахмедова — The Earth’s Shadow («Тень Земли»). Инсталляция как будто соткана из нитей и пряностей — куркумы, гвоздики, корицы. Эта пирамида — укрытие от солнца, лечебный санаторий, насыщенный ароматами пряностей, собранных династической бухарской семьей торговцев специями.
Почему тема еды кажется такой органичной и привлекательной именно в Узбекистане? Возможно, потому что это чуть ли не единственный медиум, понятный широкому населению страны с богатым культурным наследием, но, до недавнего времени, бедным включением в мировой художественный контекст. Еда объединяет модных фотографов и шоферов грузовиков, экоактивистов и жен чиновников. Бухарская биеннале дает зеленый свет не только местным ремесленникам почувствовать себя участниками глобального художественного контекста, но и прикладным искусствам выйти на сцену международного fine art.
Важен и контекст того, как развивается институциональный слой на постсоветском пространстве. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана (ACDF) под руководством Гаянэ Умеровой выступает сегодня ключевым игроком: его миссия — поддержка молодых художников, исследование пересечений локальной традиции и современного эксперимента, продвижение культурной дипломатии. Через резиденции, гранты, образовательные программы и кураторские инициативы ACDF укрепляет связь между художниками региона и мировыми арт-институциями.

В качестве примера я хотел бы рассказать о проекте званого обеда, который подготовила наша студия совместно с ACDF этой весной. Мы представили гастрономическую концепцию в рамках крупного международного события — Аральского культурного саммита. Обед в юрте для 80 гостей — международного пула ученых, политиков, активистов и журналистов. Подготовка заняла полтора года и включала две экспедиции: к Аральскому морю, в керамические школы династий ремесленников, мастерские вышивальщиц, на рынки, в архивы и музеи. На основе встреч с фермерами, краеведами, кураторами были созданы посуда и скатерть с 20 каракалпакскими узорами. С потомственными керамистами — семьей Назировых из Риштана — мы создали сет посуды. Центром пространства стал 31-метровый спиральный стол, вдохновленный орнаментом «кумурыска бел» («талия муравья»). Его форму повторяла произведенная нами световая инсталляция, обыгрывающая название региона Каракалпакстан, то есть «черный колпак». Флористическое оформление — ветви пустынного кустарника-эндемика — было предложено Рубеном Саакяном. Две перформативные станции транслировали местную кухню в реальном времени: каракалпакские повара готовили конфитюр из узбекских лимонов для финального курса и мармелад из ежевики с солодкой — распространенной местной пищевой культурой. Световое решение отсылало к оформлению мясных рядов на ташкентском рынке Чорсу. Меню и его реализация — совместная работа поваров ташкентского ресторана «Куранты» и шеф-повара Леонида Простова. Цель — услышать и переосмыслить культуру и природу региона через вкус, форму и ритм. В целом проект позволял познакомиться с локальной визуальной и гастрономической традицией, а также с ее современными интерпретациями.
В итоге кажется очевидным: малые формы, творцы с «глобального Юга» и Центральной Азии получают не просто «дополнительную секцию» или декоративный акцент — они завоевывают сцену. Неконвенциональные медиа — гастрономия, зодчество, вышивание, керамика — перестают быть «прикладными» или «региональными» экзотиками и претендуют на центральное место в современной художественной дискуссии. Это изменение не просто эстетическое: это практика деколонизации, расширение понятия искусства, признание множества способов существования и чувствования, которые до сих пор оставались вне институционального мейнстрима.
Первая Бухарская международная биеннале «Рецепты для разбитых сердец»
До 20 ноября 2025 года