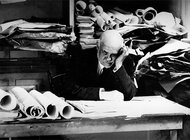Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

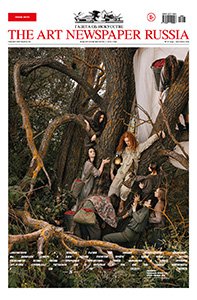
Начнем с самого знаменитого художника в вашей коллекции. Это глухонемой Александр Лобанов (1924–2003), чьи работы были даже на Московской биеннале современного искусства (2009), которую делал знаменитый куратор Жан-Юбер Мартен, и тогда о Лобанове многие узнали впервые.
Так, значит, Александр Павлович Лобанов. Был старшим из трех детей в семье. Отец умер; в одной комнате в коммуналке мать не справлялась с проблемным мальчиком. В сложные послевоенные годы пришлось обратиться в психиатрическую клинику. С 23 лет и до самой смерти Лобанов находился в больнице в Афонине. Это под Ярославлем такая деревенька. Несколько деревянных бараков, где содержались люди. В своих письменах он использовал два основных слова: «хорошо» и «плохо». В его записках неоднократно повторялось: «больница — плохо», «уколы — плохо», «манная каша — плохо»... В советское время в больницах оплачивали труд: кто конверты клеил, кто в мастерских работал, а он валил деревья, воду привозил. Маме показывал: вот, возьми, это деньги на наш дом. Но он не понимал, какие в действительности нужны суммы. Она в тревожном недоумении разводила руками — он кричал, плакал (глухонемые протест криком передают). Ситуация не для слабонервных, мама в расстроенных чувствах убегала.
Почему Лобанов полюбил изображать оружие?
В Афонине у всех баб — нянечек, тех, кто на кухне работал, — мужья, братья были охотниками, выписывали журналы охотничьих хозяйств, и женщины потом относили их больным. Я предполагаю, что эти ненужные журналы, газеты там складывались в качестве туалетной бумаги. А для него эта подборка предстала прообразом «библиотеки». Я и сейчас храню обложки, тексты СМИ, из которых он что-то черпал, какие-то темы.

Лобанов был очень скромный, одевался тщательно, выбрит был педантично, не пил, не курил, исполнительный, не вороватый. Ему разрешали держать пару чемоданов под кроватью, где даже находились ножи для заточки карандашей, для его поделок и ремонта. Естественно, это категорически запрещено в больнице. У Лобанова формировалось такое мифическое, наивное, советское мироощущение. Прорисованное им оружие — это не признак агрессивности. Мальчики же все стреляют из рогаток, играют в «пистики». То есть это служило элементом становления мужественности, взросления.
У него есть несколько рисунков со Сталиным. Он не знал, кто это такой, с трудом прочитал: отец народов. Ему пояснили: папа. А отец-то у Лобанова уже умер! Мать-кормилица, отец-мудрец — юнгианские архетипы. У него совпало: так значит, Сталин-то — наш (может, и мой!) папа. Необычны рисунки вождя в наушниках, а в руках какой-то «гиперболоид», фотоаппарат или звукотранслятор, которым он, видимо, слышал и запросы глухонемых людей.
Как вы узнали об этом человеке?
В 1997 году я сделал выставку своей коллекции «Арт-проект „ИНЫЕ“» в городском выставочном зале Ярославля. Шестаков Владимир Иванович, психиатр из Афонина, почувствовал, что Лобанов — художник-то интересный, и привез его работы. Я успел их и в выставку внести. Работы Лобанова пробудили большущий интерес у зрителей. А потом я уже и с Лобановым познакомился.

А как у вас сформировался интерес к такой графике?
С молодости я интересовался роком, джазом, потом книжками по искусству. В каких-то из этих книг я подметил, что вот модернисты — они рисуют страшнее, чем шизофреники. Я думаю: что за хаос такой возникает у больных? А когда стал психиатром, начал изучать и коллекционировать удивительные рисунки пациентов.
Потом заинтересовался арт-терапией, сделал в учебном кабинете музей арт-терапевтической экспрессии. Ко мне приходили родственники больных, художники, просили показать и пояснить, ведь и сюрреалисты интересовались трудами Ханса Принцхорна, немецкого психиатра, собиравшего художества больных. И я понял, что такая коллекция имеет как минимум культурологическую ценность.
Врач-психиатр, психотерапевт, коллекционер
1955 родился в Ярославле
1979 окончил Ярославский медицинский институт (ныне — Ярославский государственный медицинский университет, ЯГМУ)
С 1987 ассистент кафедры психиатрии им. Л.К.Хохлова ЯГМУ
С 2024 старший преподаватель кафедры психологического консультирования Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова
1997 организовал арт-проект «Иные» (выставки, конференция) в городском выставочном зале Ярославля
2001 организовал арт-клуб «Изотерра» для проведения социореабилитационной работы
Самостоятельно проводил и участвовал в организации более 100 выставок искусства аутсайдеров в России и за рубежом
Работы из коллекции «Иные» хранятся в государственных художественных музеях России (Екатеринбург, Иваново, Москва, Ярославль); в Музее коллекции ар-брют Лозанны и коллекции abcd / Art Brut (Швейцария); в музее «Креасьон Франш», Музее современного искусства Вильнев-д’Аска, Центре Помпиду (Франция); музее GAIA (Дания); Музее наивного и маргинального искусства (Сербия); Музее всего (Великобритания)
Вы издали книгу о вашей коллекции «Иные» (2017), и там целая глава посвящена «академикам солнца». Один из них — Михаил Калякин — перевоплощался то в Ленина, то в Рузвельта, Илью Муромца и Чио-Чио-сан…. Что это за академики такие?
В 1960-е годы в нашей стране только появлялись нейролептики — препараты, которые тушат психозы и попутно — фантазии. До этого больные были практически безвыписные. Каждый творил что мог, как на гравюрах Хогарта о Бедламе. Кто-то чиркал-рисовал, кто-то разрабатывал вечный двигатель, кто-то возвеличивал свой статус. При так называемом парафренном синдроме возникают фантастические идеи величия, галлюцинации, подтверждающие их супервозможности, больные примеривают различные маски великих личностей (так называемое явление деперсонализации). В этот период больные убеждены в своей исключительности, особой миссии, власти над миром, ощущают в себе невиданные возможности творца… Сейчас такие состояния встречаются редко.
Для большинства врачей понятно, что это так называемые бредовые идеи, но мне-то интересна креативная составляющая их возможностей. Я стал интервьюировать нашего именитого профессора Леонида Константиновича Хохлова на эту тему. Фармакотерапия позволяет больных из их невольной эмиграции, из иных миров, с их инакомыслием и инакобытием, которые не вписываются в привычную психосоциальную «норму», вернуть на нашу грешную землю. Но не все хотят расставаться с парафренной сказкой, с крыльями возросших креативных возможностей. Поэтому люди искусства взывают: не трогайте больных, оставьте в покое «безумное» опьянение! Однако безумие — это страшно, об этом лучше всего знают родственники больных. Поэтому у врачей другая задача — подлечить и ресоциализировать больных.
Сколько авторов в вашей коллекции?
Ой, по-моему, за 200. Примерно 1 тыс. произведений, которые я активно выставляю. Более 300 работ (графика, живопись, фото) уже подарено различным музеям. Сейчас я сотрудничаю с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств (ЕМИИ), одним из подразделений которого является Музей наивного искусства. У них имеются как искренний интерес к аутсайдерскому искусству, так и возможности реставрации наших хрупких документов, а также их хранения.

Каковы хронологические рамки вашего собрания? Какая самая ранняя работа?
Лебедев Александр — 1949 год. Эти работы мало сохраняются. Я попал в нужное время. Психиатры некоторых вузов и больниц интересные картинки лишь вклеивали канцелярским клеем — что ужасно — в альбомы «творчество душевнобольных». Со временем работы желтеют, отклеиваются, теряются, бумага коробится, чернила выцветают.
Вы собираете только российских художников или у вас есть иностранные?
В эпоху перестройки я начал выезжать за рубеж. Первая выставка была в Германии, в Касселе, где проводилась Documenta 10. В рамках ее неофициальной, сателлитной, программы в лютеранской церкви предложили сделать выставку. Потом чаще ездил во Францию. Я обмениваюсь, у меня много работ зарубежных авторов, даже три ружья Андреа Робиньяра, которые он делал из досочек, металлических трубок и плат от ЭВМ…
В Европе имеется авторитетное международное Общество психопатологической экспрессии — SIPE. Я был его вице-председателем, ездил, выступал. Я заинтересован в том, чтобы русское искусство светилось и за рубежом, во Франции и в Германии. В Сербии, в Ягодине, существует изумительный Музей маргинального искусства самоучек, с которым удалось наладить сотрудничество.
Вы используете выражение «психопатологическая экспрессия». Поясните, что это за термин.
В медицине термин-стигма может выполнять роль ярлыка, которым мы клеймим людей: «дурики», «психи». Чтобы снизить эту тенденцию, психиатры и клинические психологи проводят дестигмационные программы: выставки, дни открытых дверей в клиниках, разъяснительные программы в социальных сетях, акцентируя внимание на том, что у нас больше общего, чем различий. На словосочетание «творчество душевнобольных» или «психбольной» люди реагируют неоднозначно. «Экспрессия» — это выражение, выплеск, высказывание, а уточнение «психопатологическая» лишь указывает на то, что она была создана в период душевного нездоровья. Мы коллекционируем не стенограммы переживаний — это, по сути дела, художественные высказывания, рисунки больных, спонтанно созданные, без участия наставников или арт-терапевтов.

Вы специально нашли такое нейтральное слово «иные» для вашей коллекции?
Да, это в некотором роде инакомыслящие, отличающиеся по поведению, художественному стилю, имеющие «психиатрический опыт». Любой опыт, даже негативный, способен обогатить «разумного» человека.
Можно ли по художественным произведениям поставить диагноз автору?
Раньше, когда инструментарий психиатров был невелик, рисунки были несомненно важным методом диагностики. Примерно с конца ХХ века, с появлением у клинических психологов богатого арсенала исследований психопатологии, интерпретация рисунков остается дополнительным методом.
Хотя трактовка тематически заданных графических тестов («нарисуй человека, семью, несуществующего животного») может навести на важные диагностические рассуждения в случае детей и подростков.
За 40-летнюю собирательскую деятельность что более всего вам запомнилось?
Жизнь и творчество, то есть опыт, Лобанова. С советского времени люди продолжали длительно находиться в деревенских больницах, но на многих так и не смогли оформить паспорта. Мой брат обратился в администрацию губернатора, и Александру Павловичу Лобанову на выставке в Ярославском художественном музее, приуроченной к его 75-летию, торжественно выдали паспорт. Это позволило оформить пенсию, дало возможность купить карандаши, вещи… Мы и захоронили его не в какой-то деревенской яме, а на ярославском кладбище, поставили памятник и вместе с родственниками следим за могилой.
Произведения Лобанова уже оцениваются валютой, и он должен находиться в достойных местах. Его работы я раньше обменивал для пополнения коллекции, а сегодня считаю своим долгом передавать в государственные музеи: ярославский и ивановский художественные музеи, московский Музей наивного искусства, Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

У вас есть художник Павел Леонов. Его чаще соотносят с наивным искусством. Есть ли для вас границы между такими понятиями, как ар-брют, искусство аутсайдеров и наивное искусство?
Павла Леонова я очень люблю, его работы украшают мою жилую комнату. Я был у него в гостях дважды и могу предположить, что эмоционально уравновешенным человеком его назвать не совсем верно. У него был трудный, предполагаю, конфликтный характер, и только в возрасте за 60 он нашел женщину, родил сына. Но проходным билетом в коллекцию «Иные» является не справка о «безумии», а несомненный талант художника.
Генетически наивное искусство и искусство аутсайдеров связаны. Если не близнецы-братья, то кузены. Это художники-самоучки, непрофессионалы. «Иные» лишь зонтик, под который может попасть и наивное, и племенное искусство, а может быть, и искусство какой-нибудь этногруппы. Кстати, для меня одной из самых внятных особенностей аутсайдерского искусства является его монологичность, диалогичность, а нарративность и поучительность более характерны для наивного.
Какие еще художники из вашей коллекции заслуживают быть включенными в арт-процесс без скидок на душевные особенности?
Например, художник Андрей Цымбал. В его 70-летний юбилей в Екатеринбурге, в ЕМИИ, сейчас проводится выставка «Этнофлористический симметризм». Это крутой художник! Я любуюсь им, с удовольствием изучаю и описываю его внутренний мир, его фантазии и высказывания.
А есть ли в вашей коллекции женщины?
Художник-медиум Катюша. «Высший разум» вышел с ней на связь, она контактирует с ним, разговаривает уже больше десяти лет. На ватмане и фрагментах мебели очень интенсивно она зарисовывает города будущего, какие-то станции космического коммунизма. Когда в Москве, в «Гараже», в 2012 году была выставка британского Музея всего, ее работы сразу же поспешили приобрести.
Думаете ли вы о судьбе своей коллекции?
Когда был моложе, я планировал создать музей. В 2010 году Ярославлю праздновали тысячу лет. Я писал заявки, но что-то там не приглянулось, и я не стал настаивать. Я теперь не «коллекционер-передвижник», который организовал более 100 выставок в стране и за рубежом, мне больше нравится исследовательская и просветительская деятельность, я стал «искусствомедом». Творчество и жизнь этих людей мне интересны как своего рода открытия, это обогащает мой жизненный опыт.