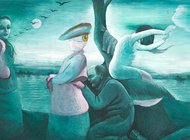Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

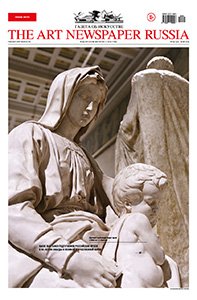
«А что, если серовский портрет Феликса Юсупова с французским бульдогом — это на самом деле портрет бульдога Клоуна (он же Гюгюс) с Феликсом Юсуповым?» — спрашивает сокуратор выставки Мария Салтанова, старший научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея. Какой смысл скрывает левретка на прогулочном портрете Екатерины II кисти Владимира Боровиковского? Почему знаменитое кафе Серебряного века называлось «Бродячая собака»? Какое место занимали псы в советском пантеоне героев? И это лишь немногие из вопросов, на которые пытается ответить гигантская выставка, раскинувшаяся на трех этажах бывшего обиталища больших поклонников псовой охоты, русских великих князей — Мраморного дворца, ныне филиала Русского музея.

Тема при этом на первый взгляд кажется весьма популистской — выбранной, чтобы гарантированно привлечь массовую публику в нашу несчастную эру «выставочных блокбастеров». Однако то, как и — главное — кем проект делается, ставит его совсем на другую интеллектуальную ступень. Как рассказал нам ее сокуратор и главный вдохновитель Александр Боровский, это своего рода продолжение его выставок «Весть» и «Ассамбляж, объект, инсталляция», в которых классические произведения были представлены в сочетании с современным искусством. Таким образом, эта выставка — третья в серии остроумных экспозиций, которые стал делать под руководством Боровского отдел новейших течений Русского музея, внезапно расправивший крылья при новом директоре.

От ассамбляжа до доберманов вообще-то большой скачок, который может показаться необъяснимым для тех, кто не знает, что в 2012 году Александр Боровский, отвлекшись от научных монографий, выпустил «Историю искусства для собак». Эта книга мгновенно стала бестселлером и выдержала несколько переизданий. Диалоги о прекрасном в ней ведут дворняга Рыжий и такса Табакерк Двадцать Седьмой, символизирующие разные социальные слои и разное отношение к искусству. Домашние питомцы, между прочим, герои очень многих картин, только часто мы просто не обращаем на них внимания. Например, знаете ли вы, что в сцене «Охотников на привале» Василия Перова не три участника беседы, а четыре? Три человека травят байки, а вот белый пес (возможно, гончая), повернувшись к людишкам задом, всей своей позой, изгибом позвоночника явственно выражает, что именно он думает обо всех этих россказнях.

Так что Боровский знает о собаках в искусстве, по-видимому, все. Но, как выяснилось, не до конца: последние несколько месяцев, по мере подготовки грядущей выставки, хранители и кураторы занимались опознанием всех пород, изображенных на экспонатах, привлекая к этой сложной экспертизе профессионалов. Нос к носу пришлось изучить около 400 животных. Все свежие открытия обещают отразить в этикетаже. Ведь знание точной породы порой становится ключом к пониманию того, что именно хотел подчеркнуть автор в своем произведении. Такие нюансы для современного человека не очень понятны, а вот в XIX веке, когда помещик становился великим писателем, написав «Охотничьи рассказы», наполненные психологическими оттенками настроений гончих, легавых или сеттеров, это было совершенно логично.

В России никогда не было подобного проекта — не только по масштабности охвата, но и просто по теме. На Западе, например, Музей Орсе в прошлом году показал в своем разделе графики небольшую выставку Сhiens-d’œuvre (игра слов, которую можно перевести как «Собачьи шедевры»). Симптоматично, что ее куратор — наша соотечественница Сурия Садекова. Возможно, дело в том, что всех нас растят на «Муму» Тургенева?
Экспозиция в Русском музее на порядок больше, она охватывает все техники: от живописи и графики до народных игрушек и современных инсталляций. Например, есть гигантская надувная собака Ивана Горшкова. Представлена первая собака в русской живописи — парсуна конца XVII века с изображением царицы Марфы Апраксиной, второй жены Федора III Алексеевича, на руках у которой собачка. Это, скорее всего, кавалер-кинг-чарльз-спаниель (порода, названная в честь Карла II Стюарта). Как она попала в допетровскую Россию — это задача для отдельного исследования.

Вместе с собаками мы изучим все стадии развития отечественного искусства. Вот аристократические портреты XVIII века, где эти питомцы — частый атрибут, становящийся все более популярным по мере роста англомании. Пример жанра — картина Луи Мишель ван Лоо с изображением Екатерины Голицыной и ее мопса, прибывшая из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (к счастью, Русский музей не ограничился собственной коллекцией, а направил запросы по всей России, благодаря чему мы увидим практически все наличные шедевры по теме). У Николая I был любимый пудель, у Александра II — ньюфаундленд, у Александра III — лайка, у Николая II — спаниель. Как порадуются от этой информации те, кто любит составлять психологические портреты владельцев собак по их породам! Отдельные секции посвящены русской псовой охоте (как обещает Боровский, «мы покажем великий охотничий путь русского искусства»), жанровой живописи, теме детей с животными…

В искусстве ХХ века собаки меняются. Вспомним их портреты работы Кузьмы Петрова-Водкина, а также «Человека с убитой собакой» — автопортрет Дмитрия Жилинского с мертвым другом на руках — чау-чау Чаном, сбитым автомобилем. Или вот история. У Алисы Порет был дог по кличке Хокусай, которого позже по непреодолимым причинам пришлось переназвать Хокусаевной. Собака появляется в воспоминаниях об обэриутах, а также на портрете кисти Порет (причем с третьим глазом — как космическое существо со сверхсознанием). А Татьяна Глебова включила Хокусаевну в групповой портрет вместе с собой, Порет и Павлом Филоновым. На выставке покажут фотографии этой легендарной суки — постановочные «живые картины» а-ля Веласкес. Кстати, фотографический цикл, где исполнителями ролей были и Даниил Хармс, и Хокусаевна, был впервые опубликован хармсоведом Владимиром Глоцером, что вдохновило группу «Новые художники» на создание Нового театра, первой постановкой которого стал «Балет трех неразлучников» Хармса (1984).
Крайне любопытен раздел канонического советского искусства. Это не только детская книжная иллюстрация, но и помощники пионеров-героев, собаки-полярники и собаки-космонавты. «Из немного маргинальных историй будут работы, созданные благодаря Институту народов Севера, — говорит Мария Салтанова. — Там представители северных национальностей, наивы-примитивисты, учились у академистов».

Третий этаж посвящен собакам в искусстве нашего времени. Несколько крупных статуй и инсталляций обещают поставить во дворе Мраморного дворца, где огромные собаки будут «гулять на газоне». Так что музей будет начинаться раньше вешалки, ошеломляя зрителя.
При этом в современном искусстве собак стало гораздо меньше, сокрушается Александр Боровский. «Собака — это что-то сенсорное, активное, живое, в то время как contemporary art склонен к умозрительности, придумыванию. Они все боятся человеческих эмоций, а собака утешает, радует, от ее эмоций отгородиться нельзя. И она продолжает жить — в самом искреннем искусстве».
Государственный Русский музей, Мраморный дворец, Санкт-Петербург
«Жизнь замечательных собак»
До 24 ноября